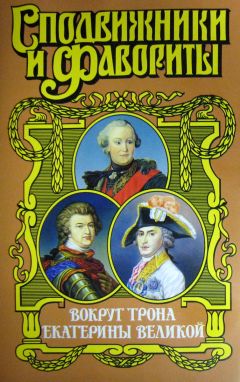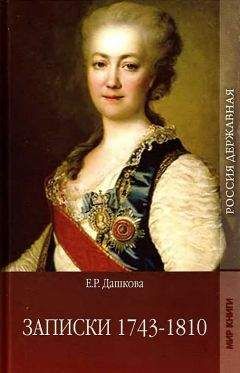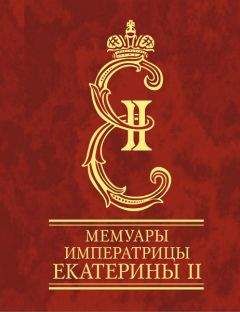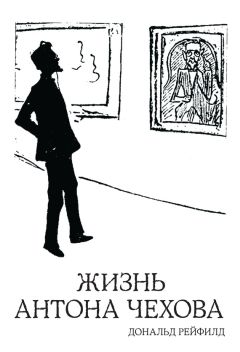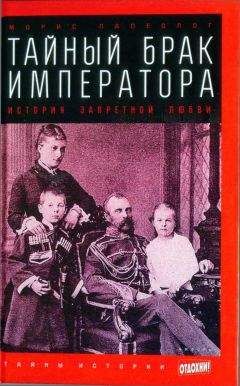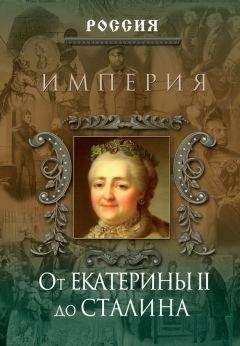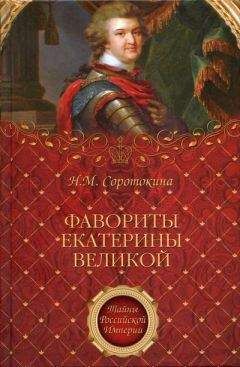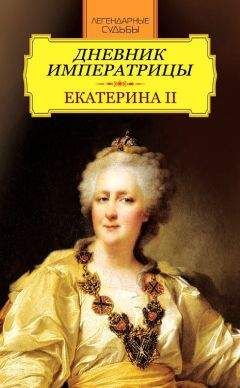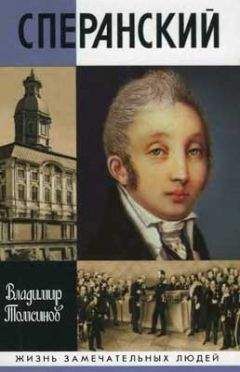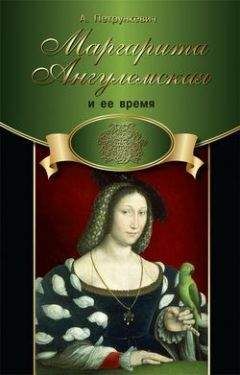Петр Стегний - Хроники времен Екатерины II. 1729-1796 гг.

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Хроники времен Екатерины II. 1729-1796 гг."
Описание и краткое содержание "Хроники времен Екатерины II. 1729-1796 гг." читать бесплатно онлайн.
Это издание представляет собой историко-документальное исследование, результат пятнадцатилетнего изучения екатерининской эпохи, включая работу в архивах России, Франции, Англии, в меньшей степени — Германии. Цель автора — высказать свою точку зрения на ряд ключевых проблем царствования Екатерины II, остающихся предметом дискуссий, и тем самым попытаться реконструировать внутреннюю логику одного из самых значительных периодов в русской истории.
Что тут можно сказать? Пожалуй, только одно. Трудно и, наверное, даже невозможно было найти тему более неблагодарную и, скажем прямо, опасную.
Отношения с сыном — самая темная и таинственная страница царствования Екатерины.
В этом смысле заметки Дидро в высшей степени любопытны. Во всяком случае, в них сохранились пассажи удивительные:
«Может ли царствующий монарх возлагать корону по своему произволу на любого из своих детей? Какой повод к семейным ссорам! Какой повод к революциям в государстве! Какой повод к двоедушию и низкому услужничеству! Какой повод к волнениям в народе, выбор которого весьма часто останавливается не на том, кого выбрал монарх! Какой удобный мотив для восстания!»
Самым надежным залогом обеспечения стабильности государства Дидро представлялось установление правильного наследования трона.
«Я недалек, пожалуй, и от мысли Вашего величества сделать корону выборной между детьми монарха с тем, однако, условием, чтобы выбор не был производим отцом».
Слова поразительные, хотя бы потому, что из них ясно следует: Екатерина обсуждала с ним то, о чем не говорила ни с кем и никогда — вопрос о престолонаследии.
Конечно, советы Дидро, считавшего, что монарха должен выбирать народ через своих представителей, могли вызвать у его собеседницы лишь недоумение. Важно, однако, другое. Как одинока была российская императрица осенью 1773 года, какую непреодолимую потребность в общении она испытывала…
Что же касается Дидро, то нет сомнений в том, что он вторгался в столь деликатные сферы, движимый наилучшими побуждениями.
— Начальство над конвоем великого князя я поручил бы одному из Орловых, — говорил он Екатерине. — Все они готовы отдать последнюю каплю крови за Ваше императорское величество. И по основательным причинам. Как приятно быть обязанным людям верным, прямодушным, честным и твердым, каковы, как мне кажется, пять братьев Орловых. Позвольте мне, Ваше величество, воспользоваться этим случаем и поздравить Вас с прекрасным выбором, сделанным в такое время, когда приходится брать первого попавшегося, готового пожертвовать собой. Да сохранит же Небо их надолго для Вашего величества и Ваше величество для них. Это Ваши верные стражи!
Впрочем, дальнейшие рассуждения Дидро звучат явным отголоском его личных наблюдений:
— За исключением Орловых, мне кажется, я во всех замечаю какое-то взаимное недоверие, какую-то осторожность, противоположную прямоте и откровенности, которые свойственны высоко настроенной, свободной и уверенной в себе душе. Но что еще более удивительно, ни один из моих русских собеседников не сознавал подлинной ценности заведенных Вами учреждений. Ни один из них не выслушал меня без удивления. Ни один не понимал мудрости монархини и выгод, имеющих произойти от нее в будущем. Всех мне приходилось просвещать и наводить на путь истинный, за исключением, может быть, только моего товарища по путешествию, господина Нарышкина.
И далее:
— В душах Ваших подданных есть какой-то оттенок панического страха — должно быть, следствие длинного ряда переворотов и продолжительного господства деспотизма. Они будто постоянно ждут землетрясения и не верят, что земля под ними не качается, совершенно как жители Лиссабона или Макао, с той только разницей, что те боятся землетрясений материальных. Колебания в умах заметны и очевидны. Неясно только, происходят ли они от нарушения личных интересов, совершенного Вашими мудрыми и справедливыми деяниями, или от перемен в общественном строе.
И концовка — логичная и неотвратимая, как в фугах любимого Дидро Иоганна-Себастьяна Баха:
— Кто производит революции? — вопрошает он. И сам же отвечает: — Люди, которым нечего терять при перемене общественного порядка; люди, которые могут при этом выиграть.
Лицо Екатерины хранило задумчивое выражение.
— Как к этому относиться? — продолжал Дидро. — Во-первых, следует обогащать или своевременно удалять лиц могущественных, но недовольных. Во-вторых, заботиться о просвещении народа. Нации просвещенные не возмущаются, а терпят.
В этот момент Екатерина, наверное, улыбалась. Слова Дидро как нельзя лучше совпадали с ее собственными мыслями. Впрочем, хватит предположений, сколь заманчивых, столь и неверных. Не будем излишне строги к великому философу. Кто другой на его месте мог подумать, что сидящая напротив него женщина, со спокойной улыбкой выслушивающая его взволнованные филиппики, переживает в эти дни один из самых опасных кризисов своего царствования?
Действо третье
Если у Императрицы есть слабость, то она состоит в желании достигать посредством интриг и таинственным образом целей, которые были бы доступны ей при помощи более простых и естественных путей.
Из донесения английского посланника в Петербурге Р. Гуннинга от 22 ноября 1773 г.Странные совпадения случаются в жизни.
Державин в своих «Записках» вспоминает, что в день бракосочетания великого князя в Петербург пришло первое известие о том, что на Урале, в окрестностях Оренбурга, появился беглый донской казак Пугачев, всклепавший на себя имя покойного императора Петра III. Рапорт оренбургского губернатора, сообщавшего, что лже-Петр собирается идти на Петербург, чтобы «обнять возлюбленного сына своего, великого князя Павла Петровича», не особенно встревожил Екатерину. В первые десятилетия ее царствования в России, да и за границей объявлялось не менее дюжины самозванцев, выдававших себя за покойного Петра Федоровича. С ними быстро и без огласки справлялись.
Тем не менее, тревожные вести, поступившие с Урала, императрица распорядилась сохранить в строжайшей тайне — тень покойного супруга, явившаяся с берегов далекого Яика, грозила омрачить свадебное торжество. О мерах по пресечению «уральской фарсы» она посоветовалась лишь с самыми доверенными людьми — Никитой Ивановичем Паниным и вице-президентом Военной коллегии Захаром Чернышевым. Захар Григорьевич, кстати, о Пугачеве отзывался пренебрежительно, говорил, что бунт в Заволжских степях лишь искра по сравнению с восстанием атамана Ефремова на Дону, случившимся в 1772 году.
Что и говорить, и на Дону, и в Зауралье всегда было неспокойно. А особенно в первое десятилетие екатерининского царствования. Чересчур «скоропостижная», по выражению Дашковой, смерть Петра Федоровича, трагическая гибель Иоанна Антоновича, узника Шлиссельбургской крепости, вызывали неблагоприятные для императрицы толки и в провинции, и в столицах. Даже в гвардии, приведшей ее к власти, заговоры следовали один за другим: Хрущев, Гурьевы, Хитрово, Мирович… Одни завидовали быстрому возвышению Орловых, считали себя недостаточно вознагражденными за участие в перевороте, другие связывали надежды на свое обогащение и возвышение с восстановлением на престоле законного императора Иоанна Антоновича, несчастного отпрыска Брауншвейгской фамилии.
Самое опасное, однако, заключалось в том, что многие из заговорщиков пытались действовать именем великого князя Павла Петровича, на которого смотрели как на законного наследника российского престола. Как раз в те дни, когда Екатерина шепталась с Чернышевым и Паниным, русский поверенный в делах в Париже Хотинский занимался отправкой на родину раскаявшихся сторонников известного Бениовского, ссыльного поляка, бежавшего с Камчатки на захваченном им корабле. Бениовский выдавал себя в Европе, куда все-таки добрался, за друга и соратника великого князя, грозя собрать войско и явиться в Петербург, чтобы помочь Павлу Петровичу восстановить свои попранные права. Во французских газетах Екатерину открыто называли узурпаторшей престола.
Заговорщики исчезали в Сибири, но слухи о них будоражили европейские столицы.
«Что касается до важного известия о намерении свергнуть с престола императрицу, то я узнал, что оно основано на недовольстве народа, которое, как полагают, достигло крайних размеров», — так инструктировал в июле 1772 года британский министр иностранных дел герцог Суффолк своего посланника в Петербурге Гуннинга.
«Что бы ни говорили в доказательство противного, императрица здесь далеко не популярна и даже не стремится к этому, — писал в ответ Гуннинг. — Она нисколько не любит своего народа и не приобрела его любви. Чувство, которое у нее пополняет недостаток этих побуждений, есть безграничное желание славы, а что достижение этой славы служит для нее целью гораздо более высокой, чем благосостояние страны, ею управляемой, это, по моему мнению, можно основательно заключить из того состояния, в котором при беспристрастном рассмотрении оказываются дела этой страны».
Оценки Гуннинга, кстати сказать, человека основательного, лишний раз показывают, как трудно иностранцам разобраться в русских делах. Впрочем, если соотнести депешу посла с событиями, свидетелями которых он стал в Петербурге, следует признать, что для его пессимизма имелись определенные резоны.
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Хроники времен Екатерины II. 1729-1796 гг."
Книги похожие на "Хроники времен Екатерины II. 1729-1796 гг." читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Петр Стегний - Хроники времен Екатерины II. 1729-1796 гг."
Отзывы читателей о книге "Хроники времен Екатерины II. 1729-1796 гг.", комментарии и мнения людей о произведении.