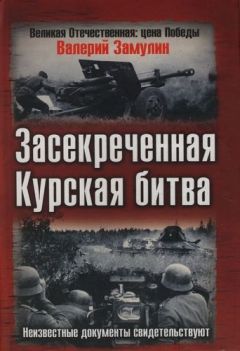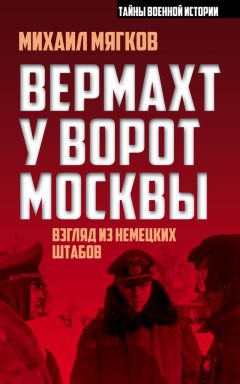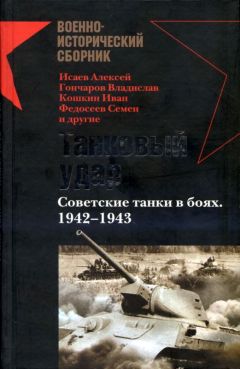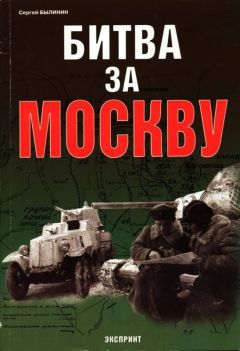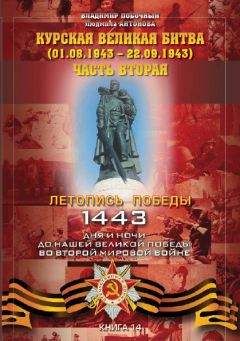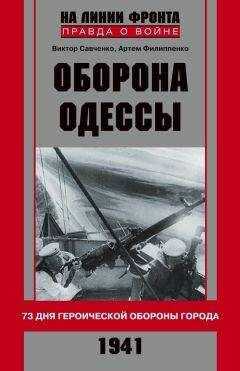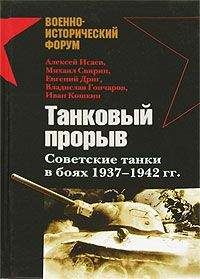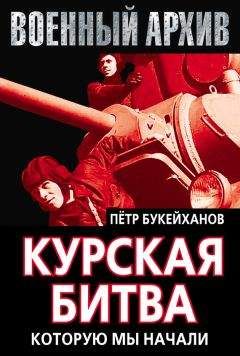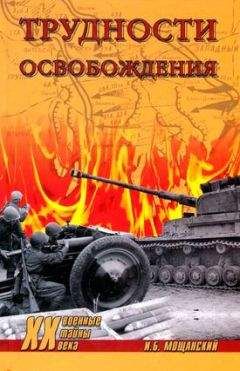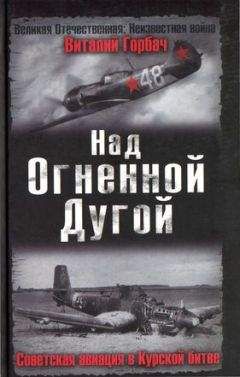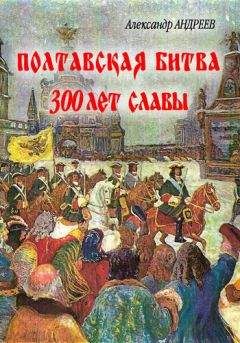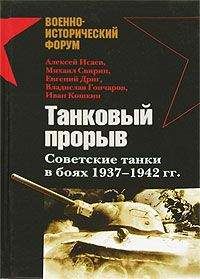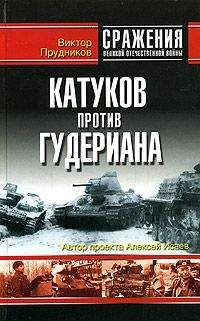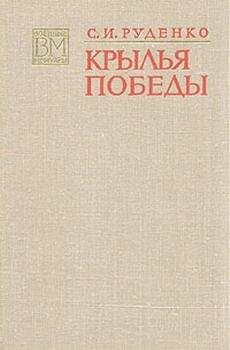Петр Букейханов - Курская битва, которую мы начали
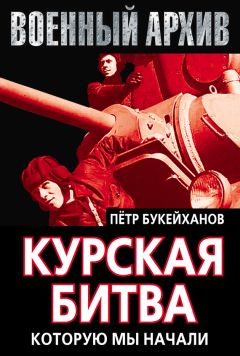
Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.
Описание книги "Курская битва, которую мы начали"
Описание и краткое содержание "Курская битва, которую мы начали" читать бесплатно онлайн.
Самое детальное в России исследование о Курской битве.
На обширном документальном материале, в том числе из фондов Центрального архива Министерства обороны, читатель увидит ход летней кампании 1943 года в районе Курска, поймет причины и условия, определившие исход операции «Цитадель», и узнает те закономерности, которые и обусловили итоги всей Курской битвы.
Самое новое исследование! Полная энциклопедия Курской битвы!
Главный маршал бронетанковых войск СССР Павел Ротмистров, комментируя труд Гейнца Гудериана «Танки – вперед!», заметил, что высказывание последнего о прекращении крупных передвижений и боевых операций войск в периоды осенней и весенней распутицы совершенно не относится к советской армии, которая имеет богатый опыт ведения успешных боевых действий именно в таких условиях[286].
Отсюда следует вывод, что жесточайшая эксплуатация рядового и младшего командного состава Красной Армии, вынужденного под страхом военного суда и расстрела работать в качестве тягловой силы для передвижения боевой техники и предметов снабжения, обеспечивала советскому командованию оперативное и даже стратегическое преимущество. Поэтому, навязывая противнику бои в период распутицы, советская сторона не позволяла немцам использовать даже то превосходство в оснащенности средствами автотранспорта на дивизионном уровне, которое германские войска сохраняли до второй половины 1944 года.
Таким образом, приведенные данные свидетельствуют, что на Восточном фронте немецкая армия далеко не превосходила советскую в подвижности, а в целом даже уступала ей по этому параметру. Предположительно более высокая мобильность немецких войск, первоначально достигавшаяся за счет превосходства в основных элементах организации и управления частями, также снижалась по мере нарастания безвозвратных потерь и соответствующего снижения опытности рядового и командного состава младшего и среднего уровня. В Красной Армии, напротив, качество организации боевых действий постепенно повышалось, в том числе возрастала и мобильность. Так, в период Орловской наступательной операции командование и тыл Центрального фронта за счет своих средств обеспечили передислокацию 17-го гвардейского стрелкового корпуса (25 тыс. бойцов с тяжелым оружием и лошадьми) на 100 – 120 км за 24 часа[287].
Вместе с тем подвижность и мобильность прежде всего являются средствами проведения маневра, а маневр, в свою очередь, преследует целью создание выгодных условий для результативной атаки. В противном случае маневрирование является бессмысленной тратой времени, ресурсов, а зачастую еще и уступкой пространства.
Согласно оценкам некоторых военачальников[288], можно сделать вывод, что со второй половины 1943 года немецкие войска продолжали превосходить советские по маневренности при смене оборонительных позиций в ходе отступления, поскольку, во-первых, оставляли тяжелую технику, чтобы сберечь жизни своих солдат; во-вторых, и немцы, и советские «партизаны» выводили из строя значительные по протяженности отрезки железнодорожных путей и автомобильных дорог с твердым покрытием, что замедляло продвижение Красной Армии. Вместе с тем немецкие части и соединения стали уступать советским по скорости маневра вдоль линии фронта, особенно в условиях отсутствия развитой сети рокадных коммуникаций и распутицы. Поэтому, не успевая оперативно перебросить силы на угрожаемые направления, немецкому командованию приходилось или заблаговременно формировать контрударные группировки в глубине обороны, в основном за счет своих немногочисленных резервов, или использовать паузы, предоставляемые перегруппировкой советских войск, и в это время подтягивать силы с относительно спокойных участков.
В роли этих сил обычно выступали так называемые «пожарные команды» – танковые и моторизованные дивизии, распределенные группами по разным секторам Восточного фронта. В северном секторе (группа армий «Север») в качестве пожарной команды в течение длительного времени использовались 24-я танковая и 18-я моторизованная дивизии; в центральном секторе на северном крыле группы армий «Центр» – 5-я, 4-я, 9-я и 12-я танковые, 10-я и 25-я моторизованные дивизии; на стыке групп армий «Центр» и «Юг» («Северная Украина») – 1-я, 7-я, 8-я, 16-я, 17-я и 20-я танковые, 20-я моторизованная дивизии; в южном секторе (группа армий «Юг», «Южная Украина») – 3-я, 6-я, 13-я и 23-я танковые, 16-я моторизованная дивизии. Танковые дивизии войск СС и моторизованная дивизия «Великая Германия» перебрасывались вдоль всего фронта для усиления «пожарных команд», обычно при необходимости организовать контрудар в том или ином секторе. Поэтому данные о прибытии на участок фронта танкистов-эсэсовцев позволяли советскому командованию с высокой достоверностью предположить о готовящемся здесь контрударе, и заблаговременно принять соответствующие меры.
Непосредственно после операции «Цитадель» и вплоть до весны 1944 года фельдмаршал Манштейн во главе группы армий «Юг» непрерывно вел маневренные боевые действия, постоянно отступая и уступая территорию, но в то же время перебрасывая свои подвижные соединения («пожарные команды») и оперируя резервами для контрударов по советским войскам. Так, в конце октября 1943 года силами 1-й танковой армии и 40-го танкового корпуса был проведен контрудар в районе севернее Кривого Рога; в ноябре силами пяти танковых и двух пехотных дивизий – в районах Фастова-Брусилова, Малина, Житомира-Радомышля, Коростеня; в январе 1944 года силами 3-го и 46-го танковых, а также 7-го армейского корпусов – в районе севернее Умани и в направлении Винницы; в феврале силами 3-го и 47-го танковых корпусов – в районе Корсуни и Звенигородки с целью деблокирования окруженной Корсунь-Шевченковской (Черкасской) группировки; в апреле силами 48-го танкового корпуса и 2-го танкового корпуса СС – из района южнее города Тернополя (до 1944 г. – Тарнополь) в направлении реки Збруч, с целью деблокирования окруженной 1-й танковой армии. Однако, несмотря на участие в некоторых из этих операций до 500 и более танков и САУ, то есть того количества тяжелой бронетехники, которого в 1941 году хватало для достижения крупных успехов оперативного и даже стратегического характера, после Курской битвы маневренные действия и контрудары немцев оказывались малоэффективны, позволяя германцам иногда добиваться местных, оперативно-тактических и тактических успехов. Это было связано, во-первых, как уже отмечалось, с постоянно возрастающей вооруженностью советских войск всеми видами боевой техники, ростом боевого мастерства и опытности их низшего и среднего командного звена, а также приспособлением к основным оперативным и тактическим приемам из арсенала немецкого командования.
Во-вторых, в связи с постоянным увеличением числа советских танков и САУ (к началу войны Германии против СССР в советских войсках состояло и поступило на вооружение до конца 1941 г. всего 28,2 тыс. танков и САУ, в 1942 г. состояло и поступило всего 35,7 тыс. машин, в 1943 г. – 47,9 тыс., в 1944 г. – 59,1 тыс., в 1945 г. – 48,9 тыс.)[289] немецких пехотных дивизий для ведения обороны было уже недостаточно, и Вермахт оказался вынужден рассредоточивать свои танковые соединения для противодействия атакам и прорывам бронетехники противника на широком фронте. Причем существенно увеличить число танковых дивизий немцы не могли по причине не столько отсутствия промышленного потенциала (хотя за все время войны Германия произвела всего лишь 42,7 тыс. танков и САУ, которые действовали на разных фронтах[290]), сколько недостатка личного состава для укомплектования как непосредственно танковых, так и мотопехотных, артиллерийских, инженерно-саперных, разведывательных, автотранспортных, и тыловых частей этих дивизий.
Сведения о динамике соотношения сил и средств на Восточном фронте свидетельствуют (см. Таблицу 6), что общее количество танков и САУ в действующей здесь немецкой армии, включая части и соединения ее союзников, не превышало 6 000 единиц, причем, по некоторым оценкам, в начале мая 1945 г. в немецких войсках еще насчитывалось около 4500 машин[291]. Вместе с тем, по данным Мюллер-Гиллебранда[292], на 1 января 1945 г. в наличии было 13 173 танка и САУ, а на 1 февраля – 13 362, хотя их производство за эти же месяцы составило 1 721 и 1 210 машин соответственно. Такие данные показывают, что широко распространенное мнение, будто бы танковая промышленность Германии с трудом удовлетворяла потребности армии в боевых машинах, и это вызывало необходимость изменений организационной структуры танковых и моторизованных соединений в 1944 – 1945 гг., – не совсем верно.
Валовой продукции военной промышленности Германии за 1944 год хватило бы на то, чтобы полностью вооружить и оснастить 225 пехотных и 45 танковых дивизий[293]. К началу 1945 года в резерве вооруженных сил Германии оставалось 2 700 орудий, 5 390 танков и штурмовых орудий, 3 200 самолетов[294]. Германская промышленность в 1944 году с избытком обеспечила армию боевой техникой, которую уже невозможно было полностью использовать на поле битвы в связи с нехваткой личного состава для комплектования полноценных соединений, в том числе танковых и моторизованных (панцер-гренадерских) дивизий, включающих танковые, моторизованные, артиллерийские, пехотные, саперные, разведывательные части, автопарк и материально-техническую базу.
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Курская битва, которую мы начали"
Книги похожие на "Курская битва, которую мы начали" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Петр Букейханов - Курская битва, которую мы начали"
Отзывы читателей о книге "Курская битва, которую мы начали", комментарии и мнения людей о произведении.