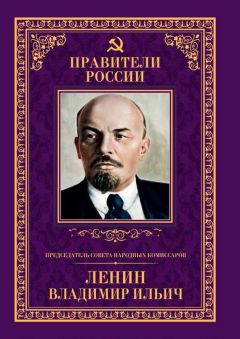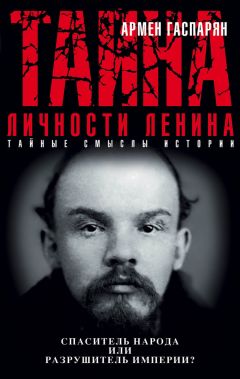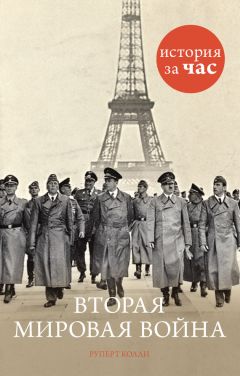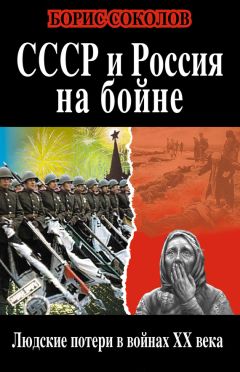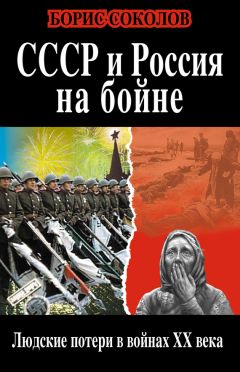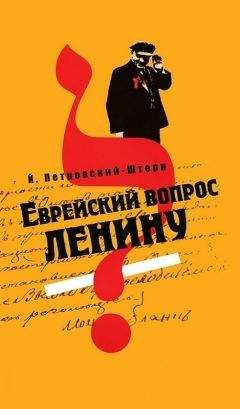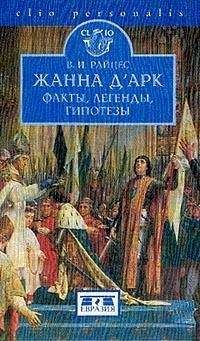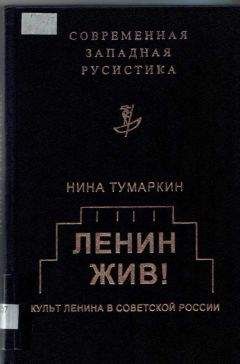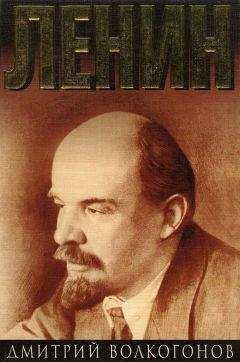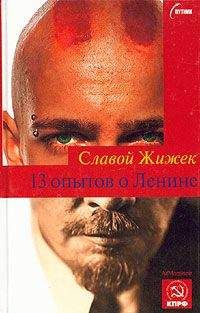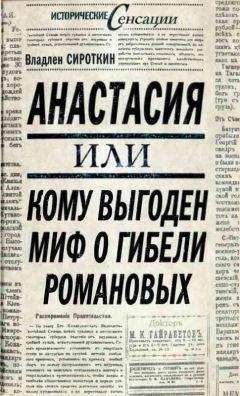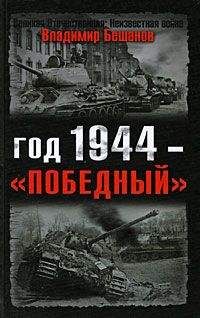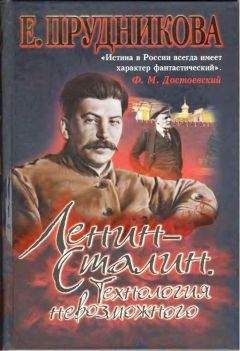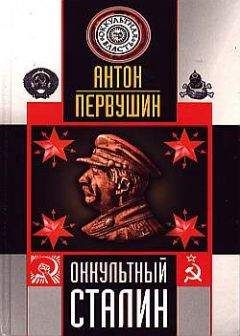Владлен Логинов - Владимир Ленин. На грани возможного

Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.
Описание книги "Владимир Ленин. На грани возможного"
Описание и краткое содержание "Владимир Ленин. На грани возможного" читать бесплатно онлайн.
В 1917 году Россия находилась на краю пропасти: людские потери в Первой мировой войне достигли трех миллионов человек убитыми, экономика находилась в состоянии глубокого кризиса, государственный долг составлял миллиарды рублей. Россия стремительно погружалась в хаос и анархию. В этот момент к власти пришел Владимир Ленин, которому предстояло решить невероятную по сложности задачу: спасти страну от неизбежной, казалось бы, гибели…
Кто был этот человек? Каким был его путь к власти? Какие цели он ставил перед собой? На этот счет есть множество мнений. Владлен Логинов, крупнейший российский исследователь биографии Ленина, избегает поспешных выводов. Портрет В. И. Ленина, который он рисует, портрет жесткого прагматика и волевого руководителя, – суров, но реалистичен. Факты и только факты легли в основу этой книги.
Постепенно собрались все. В половине третьего вся группа «направилась из ресторана “Церингерхоф” к вокзалу, нагруженные – по русскому обычаю – подушками, одеялами и пр. пожитками». На перроне уже толпились провожающие. И вдруг выяснилось, что Блюм загодя уже прошел в вагон и преспокойно, с улыбочкой, занял место. Вот тут-то Владимир Ильич, который все это время держал себя в руках, как говорится, сорвался. Он вскочил в вагон и буквально за шиворот выволок нахала на перрон.
Между тем у вагона собралась толпа эмигрантов, бурно протестовавших против поездки. Вот-вот могла возникнуть потасовка. Но молодые швейцарцы – друзья Платтена и железнодорожные служащие быстро вытолкали бузотеров с перрона. За пару минут до отхода поезда к Зиновьеву «в большом возбуждении» подошел Давид Рязанов: «В.И. увлекся и забыл об опасностях; вы – хладнокровнее. Поймите же, что это безумие. Уговорите В.И. отказаться…»[203] Но вступать в дискуссию было поздно.
Стоявший на перроне приятель Платтена, молодой анархист Зигфрид Блох, прощаясь с Лениным, вежливо «выразил надежду скоро снова увидеть его у нас», то есть в Швейцарии. Владимир Ильич рассмеялся и ответил: «Это было бы плохим политическим знаком»[204]. Отъезжающие уже заняли свои места в вагоне и все ждали сигнала к отправлению…
Поскольку в «лениноедской» литературе даже вопрос о числе эмигрантов, отправлявшихся в Россию, стал предметом политических инсинуаций, приведем их список. Под обязательством, подписанном в ресторане «Церингергоф», стоят фамилии: Ленина и Лениной (Крупской), Зиновьева и Радомысльской (Лилиной), Сафарова и Сафаровой (Мартошкиной), Усиевича и Елены Кон (Усиевич), сотрудников газеты «Наше слово» Ильи и Марии Мирингоф (Мариенгоф), Инессы Арманд и сестры ее мужа Анны Константинович, Михи Цхакая и Давида Сулиашвили, Григория Сокольникова, М. Харитонова, Н. Бойцова, А. Линде, Ф. Гребельской, А. Абрамовича, А. Сковно, О. Равич, Д. Слюсарева, эсера Д. Розенблюма (Фирсова), Б. Ельчанинова, Шейнесон, М. Гобермана, Айзенхуд и бундовки Б. Поговской. Итак 29 взрослых и два ребенка: Степан – сын Зиновьевых и Роберт – сын Поговской. Итого: 31 человек. Не было подписи тридцать второго – Карла Радека. Он являлся австрийским подданным и не мог считаться российским эмигрантом. Поэтому Платтен попросил его не мелькать на вокзале, а присоединиться к группе на ближайшей остановке в Шафхаузене, что Радек и сделал[205].
Наконец прозвенел вокзальный колокол. Провожающие запели «Интернационал». И поезд двинулся в путь…
А те, кто остались, кто считал эту поездку политической ошибкой – доказали ли они возможность иного решения? Нет…
Дни проходили в бесплодном ожидании ответа из Петрограда. «Положение наше стало невыносимым», – телеграфировал Мартов своим коллегам в Россию. 15 апреля произошел раскол. Группа эмигрантов в 166 человек, решивших ждать, выделилась в отдельную организацию. Лишь 21 апреля пришел ответ на телеграмму, посланную 5-го. Ответил Милюков. Он вновь указал, что проезд через Германию невозможен и – в который раз – пообещал добиться возвращения через Англию[206].
Эмигранты расценили ответ как издевательство. И 30 апреля заявили, что поедут на родину тем же путем, что и ленинская группа. На вопрос – не использует ли Германия их поездку в своих целях, они смогли повторить лишь то, что говорили большевики: «Нас абсолютно не касается, какие мотивы будут руководить при этом немецким империализмом, так как мы ведем и будем вести борьбу за мир, само собой разумеется, не в интересах немецкого империализма, а в духе интернационального социализма… Условия проезда Ленина, опубликованные Платтеном в “Народном праве”, содержат в себе все нужные гарантии». Аксельрод, Мартов и Семковский написали еще точнее: «Соображения дипломатического характера, опасения ложного истолкования, отступают для нас на задний план перед могучим долгом участвовать в Великой революции»[207].
12 мая (29 апреля) вторая группа эмигрантов – 257 человек, в их числе Мартов, Натансон, Луначарский и другие, уехали через Германию в Россию. В Питер они благополучно прибыли во вторник 22 (9) мая.
Впрочем, не все закончилось гладко. Пользуясь в переговорах с Ромбергом услугами того же Роберта Гримма, они привезли его с собой в Петроград для встречи с Временным правительством относительно судьбы оставшихся в Швейцарии эмигрантов. Но Гримм сразу же занялся своей «тайной дипломатией» о возможности заключения сепаратного мира и со скандалом был выдворен из России[208].
30 июня был третий, потом четвертый «заезды». Точно так же, в «запломбированном» вагоне, через Австрию, русские социалисты уехали из Болгарии. А поверившие Милюкову и дожидавшиеся проезда через Англию швейцарские эмигранты в августе 1917 года с обидой телеграфировали Керенскому: «Циммервальдисты уехали, мы остались»[209].
Но все это было потом…
А 9 апреля (27 марта) в 15 часов 10 минут поезд с первой группой политэмигрантов выехал из Цюриха. Прибыли в Тайнген. Здесь швейцарские таможенники учинили досмотр багажа по полной программе. Оказалось, что некоторые продукты – особенно шоколад – превышали нормы вывоза. Излишки были конфискованы. Затем пересчитали пассажиров. «Каждый из нас, – рассказывает Елена Усиевич, – выходил с задней площадки вагона, держа в руках клочок бумаги с начертанным на нем порядковым номером… Показав этот клочок, мы входили в свой вагон с передней площадки. Никаких документов никто не спрашивал, никаких вопросов не задавал»[210].
Вагон перегнали через границу на немецкую станцию Готмадинген. Сопровождавший группу атташе германского посольства в Берне Шюллер передал свои полномочия офицерам Германского генерального штаба ротмистру Арвиду фон Планитцу и лейтенанту, доктору Вильгельму Бюригу[211]. Все опять выгрузились из вагона и вошли в зал таможни, где мужчинам и женщинам предложили стать по разные стороны длинного стола.
«Мы стояли молча, – пишет Радек, – и чувство было очень жуткое. Владимир Ильич стоял спокойно у стены, окруженный товарищами. Мы не хотели, чтобы немцы к нему присматривались.
Бундовка, которая везла с собой четырехлетнего сынишку, поставила его на стол. На мальчика, видимо, подействовало общее молчание, и он вдруг спросил острым ясным детским голоском: “Мамеле, вуси дуэс?”» Ребенок, видимо, хотел спросить: «Что это? Что происходит, мамочка?» И детский «выкрик на… минско-английском наречии» разрядил атмосферу[212]. Оказалось, что все это «построение» понадобилось немцам лишь для того, чтобы вновь пересчитать пассажиров.
Затем в зале ожидания III класса подали ужин. «Худенькие, изжелта-бледные девушки в кружевных наколках и передничках разносили на тарелках огромные свиные отбивные с картофельным салатом… Достаточно было взглянуть на дрожащие руки девушек, протягивающих нам тарелки, на то, как они старательно отводили глаза от еды, чтобы убедиться, что давно уж в Германии не видят ничего подобного… И мы, – пишет Елена Усиевич, – совали в руки официанткам нетронутые тарелки с кушаньем»[213].
А утром подали серо-зеленый вагон II и III класса типа «микст» – наполовину мягкий, наполовину жесткий, три двери которого были опечатаны пломбами. Вагон прицепили к поезду на Франкфурт и путешественники стали размещаться. Первое мягкое купе отдали немецким офицерам. У его дверей провели мелом жирную черту – границу «экстерриториальности». Ни немцы, ни россияне не имели права переступать через нее[214]. Отдельное купе дали Ленину и Крупской, чтобы Владимир Ильич мог работать. Получили по купе семья Зиновьевых и Поговская с сыном. Отвели купе под багаж. Но когда дележ закончился, выяснилось, что нескольких спальных мест не хватает. Тогда для мужчин составили график очередности сна. Но всякий раз, когда подходил черед на полку Владимира Ильича, очередники категорически отказывались ложиться на его место: Вы должны иметь возможность спокойно работать[215].
Впрочем, со спокойной работой никак не получалось. То в купе по поводу разного рода дел набивалось множество людей. И Ленину приходилось решать даже вопрос о том, как поделить единственный туалет между курящими и некурящими. То в соседнем купе, где ехали Сафаровы, Инесса Арманд и Ольга Равич, Радек начинал рассказывать анекдоты и тоненькие перегородки буквально дрожали от хохота. То молодежь – «у кого голоса были получше и слух не слишком подводил» – шли к купе, как они говорили, «давать серенаду Ильичу».
«Для начала, – рассказывает Елена Усиевич, – мы пели обычно «Скажи, о чем задумался, скажи, наш атаман». Ильич любил хоровое пение, и нас не всегда просили удалиться. Иногда он выходил к нам в коридор, и начиналось пение всех подряд любимых песен Ильича: «Нас венчали не в церкви», «Не плачьте над трупами павших бойцов» и так далее»[216].
Любопытны наблюдения 24-летней Елены, касающиеся личности Ленина: «Никогда мне не приходилось видеть человека, до того естественного и простого в каждом своем слове, в каждом движении… Никто не чувствовал себя подавленным его личностью, даже смущения перед ним не испытывал… Рисовка в присутствии Ильича была невозможна. Он не то чтобы обрывал человека или высмеивал его, а просто как-то сразу переставал тебя видеть, слышать, ты точно выпадал из поля его зрения, как только переставал говорить о том, что тебя действительно интересовало, а начинал позировать. И именно потому, что в его присутствии сам человек становился лучше и естественней, было так свободно и радостно с ним»[217].
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Владимир Ленин. На грани возможного"
Книги похожие на "Владимир Ленин. На грани возможного" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Владлен Логинов - Владимир Ленин. На грани возможного"
Отзывы читателей о книге "Владимир Ленин. На грани возможного", комментарии и мнения людей о произведении.