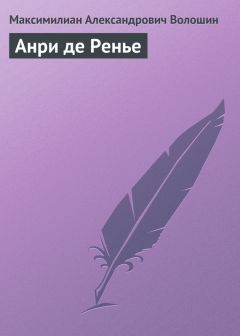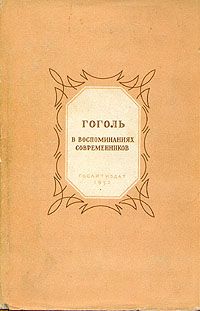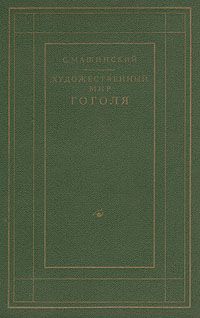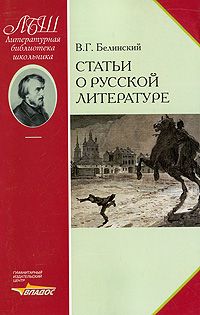Максимилиан Волошин - Том 3. Лики творчества. О Репине. Суриков
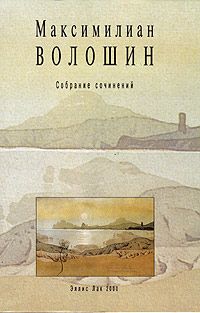
Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Том 3. Лики творчества. О Репине. Суриков"
Описание и краткое содержание "Том 3. Лики творчества. О Репине. Суриков" читать бесплатно онлайн.
Настоящее издание – первое наиболее полное, научно откомментированное собрание сочинений Максимилиана Александровича Волошина (1877–1932) – поэта, литературного и художественного критика, переводчика, мыслителя-гуманиста, художника. Оно издается под эгидой Института русской литературы (Пушкинский Дом) РАН и подготовлено ведущими волошиноведами В. П. Купченко и А. В. Лавровым.
Третий том собрания сочинений М. А. Волошина включает книги критических статей, вышедших в свет при жизни автора («Лики творчества: Книга первая», «О Репине»), а также книгу «Суриков», подготовленную им к печати, но в свое время не опубликованную.
Затем проф. Ландцерт продолжает:
«Обратим затем внимание на длину и кривизну позвоночника. Длина эта не соответствует длине левой ноги, как бы эта нога ни лежала. Кривизна позвоночника находится в полнейшем контрасте с положением головы: голова разогнута, т. е. откинута назад, а позвоночник согнут почти до крайнего предела сгибания, чего, без большого усилия, человеку сделать невозможно, потому что те же самые мышцы, которые сгибают шейную часть позвоночника, наклоняют голову вперед. Этот резкий, ненормальный для человека контраст, сам по себе, помимо выражения лица, придает всей скорченной фигуре нечто обезьянообразное.
Столь же грубые промахи в рисунке бросаются в глаза и в фигуре сына, которая вообще весьма хороша по постановке, выписке всех деталей и выражению.
Прежде всего я должен заметить, что правое бедро вовсе не чувствуется и положение его для меня не ясно. Ступня левой ноги мала по отношению к высокой, стройной фигуре сына. Вы знаете, что длина ступни должна равняться приблизительно длине предплечья; прикиньте эту ступню к левому предплечью, хорошо обозначающемуся через рукав кафтана, и вы убедитесь в сказанном. Левое бедро, которое тоже недостаточно сквозит из-под мастерски написанного кафтана, – слишком длинно. Правая ключица не обозначена, и вообще обнаженная здесь часть тела представляет какую-то опухоль. Лицо выписано и прочувствовано превосходно, но, к сожалению, черепа у сына вовсе не оказывается. Пальцы превосходно нарисованной левой руки отца хватили за наружный угол глаза сына, тогда как запястье этой руки находится далеко за ухом, почти на затылке; между тем запястье, при нормальной развитости черепа, должно было бы совпадать с ушной раковиной. Между рукой, т. е. ладонью левой руки отца, и его ртом расстояние так мало, что тут может поместиться лишь плоское тело, а не шаровидной формы череп, по размеру соответствующий величине лица.
Вообще анализ рисунка приводит меня к убеждению, что художник или вовсе не пользовался натурой, или же он рисовал с натуры отдельно фигуру отца и фигуру сына, а затем уже от себя составил их вместе.
Неудачная композиция фигур, можно сказать, почти сливающихся, недостаточно разъединенных, принудила, по моему мнению, художника облечь отца в черное платье, почти совсем неосвещенное, несмотря на присутствие второго источника света (окна в левой части картины). Только таким приемом и удалось до известной степени скрыть невозможное, по рисунку, положение отца, как оказывается, безногого, в чем, надеюсь, легко убедится всякий, лишь только взглянет на фотографию картины. Но, вследствие диссонанса между ярко освещенным розовым халатом сына и черным небрежно написанным кафтаном отца, нарушилась общая гармония. Будь на отце кафтан темно-зеленый, он больше гармонировал бы с розовым и больше выдвигал бы всю фигуру отца; но тогда вся невозможность ее положения бросалась бы сразу в глаза каждому».
Остановившись затем подробно на различии «плодотворного» и «транзиторного» момента на основании формул Лессинга2, проф. Ландцерт продолжает:
«Я совсем не буду касаться вопроса, верна ли с исторической точки зрения картина Репина; но считаю нужным сказать несколько слов о том, выражена ли, по крайней мере, достаточно ясно „случайность“ смертельного ранения сына его отцом.
Кажется, художник желал выразить это опрокинутым креслом, упавшей с него подушкой и лежащей на полу тафьей, которая слетела с головы отца, сидевшего на этом кресле и бросившегося к упавшему и обливающемуся кровью сыну. Другой мебели или предметов, которые указывали бы хотя сколько-нибудь на то, что здесь происходило до злосчастного удара, в комнате не видно.
Композиция картины в этом отношении так слаба, что, с первого взгляда на нее, кажется, будто нарочно убрали из изображенной горницы всё, что могло мешать происходившему тут поединку.
Предположим, что Иоанн сидел на кресле, которое представлено на картине опрокинутым, и выслушивал упреки сына, но где тогда стоял сын?
Количество крови, на которую художник не поскупился, указывает, что удар был так силен, что сын повалился, как сноп. Да это при ударе в висок иначе и быть не могло. Судя по луже крови на ковре, вправо от фигур, и по тем крупным и постепенно уменьшающимся пятнам, которые на ковре доходят до левой ручной кисти сына, должно полагать, что он стоял там, где теперь лежит. Сраженный ударом, он упал навзничь, так что голова его пришлась к тому месту, где находится лужа крови. Сообразите расстояние между креслом и сыном, и вы убедитесь, что даже этим длинным посохом, что положен впереди фигур, как бы напоказ, отец не мог ударить, а тем более смертельно ранить сына. Но, может быть, он метнул в сына посохом? В таком случае спрашивается: как же мог посох попасть в висок? Очевидно, сын, обращаясь с упреками к отцу, стоял, повернувшись к нему лицом. Далее, неужели отец, ударив сына и увидев, что он, как сноп, упал на пол, обливаясь кровью, не выпустил из рук посоха, а принес его к убитому сыну и здесь положил его, словно в доказательство того, что именно этим оружием нанесен смертельный удар? Впрочем, можно толковать и так: отец сидел, выслушивая сына, но, взбешенный его упреками, вскочил, уронив при этом свою тафью (она лежит около опрокинутого кресла), подбежал к сыну и ударил его в висок. Я вовсе не придаю этим, в сущности маловажным, обстоятельствам особого значения, однако указываю на них, как на признаки слабой композиции вообще.
Но, может быть, вы скажете, что случайность происшедшего совершенно ясно обнаруживается в выраженьи отца, т. е. укажете на вполне ясно выраженную „идею“ картины. Остановимся на этом вопросе.
Какую именно идею хотел выразить художник – мы не знаем. Можно предполагать, что он желал представить контраст между психическими настроениями двух лиц – отца и сына в трагический, в высшей степени, момент.
С одной стороны – ужас и отчаяние, раскаяние и любовь отца; с другой – прощение, любовь сына, умирающего от отцовской руки. В нравственном отношении изображенного аффекта к его причине и во взаимном отношении действующих лиц мы должны искать красоту картины – красоту, которая удовлетворяла бы нашему эстетическому, а вместе с тем и нравственному чувству. Эта задача, если ее действительно имел в виду художник, вполне достояйна художественного воспроизведения, и можно сказать, что, по отношению к сыну, она ему удалась. Лицо сына, по выражению, прелестно, ясно и мастерски передано. Мертвенная бледность, широко открытый глаз, уже заволакиваемый пеленой смерти, изображены как нельзя лучше. В этом взгляде нет ни злобы, ни упрека; напротив, в нем, как и в грустно улыбающемся рте, выражается словно ласка, впечатление которой на зрителя усугубляется еще положением головы сына, припавшей к отцу, и замечательно верно написанными, слабеющими, но всё еще судорожно хватающимися перстами правой руки сына. Несколько поражает нас однако то обстоятельство, что лицо сына совершенно чисто, и лишь по его виску и шее струится кровь, между тем как отец, старающийся удержать эту кровь, вымазал ею не только свое лицо, но и самые белки глаз.
Что сказать о выражении лица у Грозного? В этом выражении должна была бы выразиться во всей силе примиряющая идея, а художник закрыл совершенно от зрителя рот отца, т. е. сам лишил себя возможности передать ясно довольно сложное психическое настроение отца. Вышедшие из орбит, тусклые, старческие глаза, вытаращенные настолько, что веки совершенно куда-то скрылись, производят какое-то странное впечатление ужаса, но ни в каком случае не выражают любви и раскаянья.
Художник не поскупился на кровь: ею испачкано лицо отца, кафтан сына на плече, ковер, на котором стоит она лужей; из раны льется целая струя крови. Через это он преступил те границы, в которых может вращаться художественное творчество. Он принес в жертву выразительности художественную красоту, но не достиг выразительности. Он как бы не желал понять, что столь резкою и грубой апелляцией к чувствам толпы он уничтожает серьезность и достоинство всего произведения.
Ни отец, ни сын не способны вызвать в ком бы то ни было участия, соболезнования: напротив, они отталкивают зрителя. Это указывает на отсутствие сколько-нибудь возвышенной концепции, на тенденцию, которая и вовлекла художника в самый грубый натурализм.
Кровь написана действительно превосходно; но неужели такой действительно даровитый художник, как г. Репин, нуждался в столь дешевом средстве, чтобы произвести впечатление.
В погоне за эффектом утратились совершенно благородство, чистота и сила выражения целого произведения, т. е. поблёкла идея и во всей яркости сказалась тенденция.
Наконец, обращаю ваше внимание и на то, что художник впал в шарж и непозволительное безвкусие, представив, вместо царского облика, какую-то обезьяноподобную физиономию. В сознании каждого из нас, на основании впечатлений, вынесенных из чтения исторических повествований, из художественных пластических или сценических воспроизведений личности Иоанна Грозного, составился известный образный тип этого царя, который не имеет ничего общего с представленным на картине г. Репина».
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Том 3. Лики творчества. О Репине. Суриков"
Книги похожие на "Том 3. Лики творчества. О Репине. Суриков" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Максимилиан Волошин - Том 3. Лики творчества. О Репине. Суриков"
Отзывы читателей о книге "Том 3. Лики творчества. О Репине. Суриков", комментарии и мнения людей о произведении.