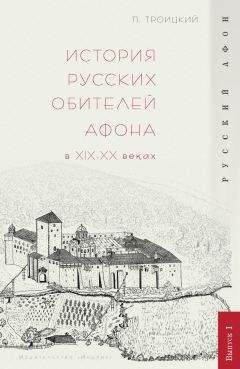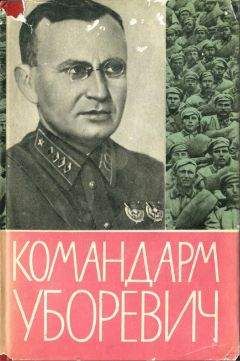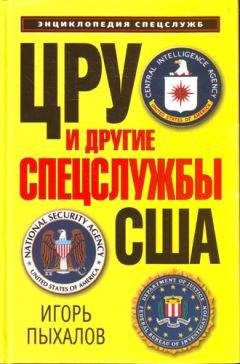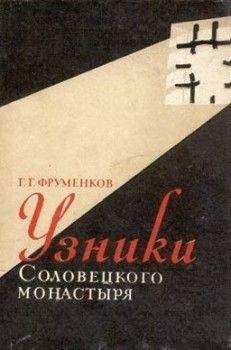Алексей Дмитриевский - Русские на Афоне. Очерк жизни и деятельности игумена священноархимандриата Макария (Сушкина)
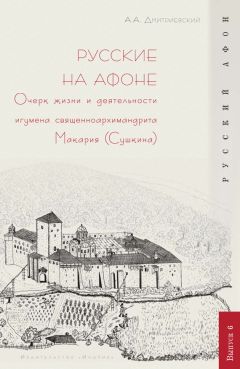
Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.
Описание книги "Русские на Афоне. Очерк жизни и деятельности игумена священноархимандриата Макария (Сушкина)"
Описание и краткое содержание "Русские на Афоне. Очерк жизни и деятельности игумена священноархимандриата Макария (Сушкина)" читать бесплатно онлайн.
У каждого большого дела есть свои основатели, люди, которые кладут в фундамент первый камень. Вряд ли в православном мире есть человек, который не слышал бы о Русском Пантелеимоновом монастыре на Афоне. Отца Макария привел в него Божий Промысел. Во время тяжелой болезни, он был пострижен в схиму, но выздоровел и навсегда остался на Святой Горе. Духовник монастыря о. Иероним прозрел в нем будущего игумена русского монастыря после его восстановления. Так и произошло. Свое современное значение и устройство монастырь приобрел именно под управлением о. Макария. Это позволило ему на долгие годы избавиться от обычных афонских распрей: от борьбы партий, от национальной вражды. И Пантелеимонов монастырь стал одним из главных русских монастырей: выдающаяся издательская деятельность, многочисленная братия, прекрасные храмы – с одной стороны; непрекращающаяся молитва, известная всему миру благолепная служба – с другой. И, наконец, главный плод монашеской жизни – святые подвижники и угодники Божии, скончавшие свои дни и нашедшие последнее упокоение в костнице родной им по духу русской обители.
Петров пост мы кушали рыбу, не разбирая среды и пятка. Весною в Петербурге особенно хороша рыба – ряпушка, корюшка, а в Петров пост ловится отличная лососина и сиги. С лососиною делали ботвинью, из сигов уху, из ряпушки и корюшки – жаркое и из свежих огурцов – салат. В Успенский пост мы не кушали рыбы, а постное. 1 августа добывался нам отличный сотовый мед. На Преображение разрешалась рыба. В некоторые годы говели в этот пост. На Преображение начинали кушать яблоки. День Успения мы проводили торжественно, ибо это был наш храмовой праздник, и у нас бывали гости самые близкие. После вечерни подавался десерт из всевозможных ягод. В продолжение лета не мало служило в удовольствие варенье, которое матушка варила в большем количестве для годового обихода. Хотя мы и немного пользовались (вареньем), но зато ягоды нами пожирались в изобилии. Осень проводили мы не скучно: в школу мы ходили при свечах и возвращались при свечах. В школе во время сумерек нам было позволено резвиться, а иногда и танцевали между собою. Вечером большею частью мы писали под диктант. Возвращаясь домой к чаю, мы уже уроками не занимались потому, что в это время мы сидели в школе и там оканчивали их. В зимнее время так же у нас проходило. Когда наступал Рождественский пост, кушали постное, а большею частию рыбу. Матушка во все посты не кушала рыбы по средам и пяткам. К Рождеству Христову нам шили обновки, а в школе за неделю учили рацеи, которые мы должны были сказать пред родителями в день Рождества Христова после литургии, за что получали денежную награду. Эти деньги складывались в особый кошелек, который хранился у матери, и не давались нам ни на какие траты. В эти праздники, в отсутствие отца, мы наряжались по-домашнему, преимущественно в женский наряд. Иван Иванович был за парикмахера…»
На этом обрываются автобиографические воспоминания покойного о. Макария, записанные в 1877 году с его слов иеромонахом Миною. Очевидно, после объявления Русско-турецкой войны, когда прекратились сношения Афона с Россией, на досуге о. Макарий хотел воспроизвести в памяти, в общих чертах важнейшие моменты своей жизни и передать их на бумаге, но затем, по окончании войны, за недосугами он оставил эту свою прекрасную мысль невыполненною и свои воспоминания неоконченными. Но для характеристики самого отца Макария, и именно в его детские годы в этом известном отрывке дано нам все, что необходимо. В приведенном нами отрывке симпатичный образ великого будущего аскета обрисовывается со всей привлекательной рельефностью, которой трудно было бы достигнуть, извлекая черты его жизни из устных рассказов его современников и даже родственников.
Глава II
Жизнь в миру
Быстро промелькнули детские годы о. Макария, а вместе с тем и годы его воспитания и обучения. Если еще и ныне, при всеобщей воинской повинности, богатое купечество редко проводит своих детей через гимназии и университет и ограничивает их воспитание лишь городскими школами и редко реальными гимназиями, чтобы приобрести некоторые права на льготу при отбывании воинской повинности, то тем с большим правом могли так рассуждать коммерческие люди тридцатых и сороковых годов истекающего столетия. «Рекрутская квитанция» в ту пору вполне гарантировала свободу от военной службы купеческих детей, сколько бы их ни было у отца семейства. Иван Дионисьевич Сушкин не представляет исключения из ряда коммерсантов того времени. Он порешил, имея при этом и свой личный опыт, что пяти лет обучения в частном пансионе достаточно для того, чтобы из мальчика, особенно прилежного, вышел прекрасный «подручный» человек и хороший помощник в торговле, а «в своем глазе» Иван Дионисьевич, при сложности своих торговых операций, крайне нуждался. В частности, в представлении Ивана Дионисьевича его Миша был достаточно выучен и имел уже право считаться образованным коммерсантом. Он «читал хорошо, арифметику знал исправно» и быстро умел переводить денежные иностранные курсы на русские и обратно, что при сделках с иностранцами, с которыми главным образом велась у Сушкиных торговля, было большою находкою для Ивана Дионисьевича. Эти познания своего сына в математике с коммерческой точки зрения отец оценил должным образом и через это даже стал оказывать к нему некоторого рода благоволение.
Итак, на четырнадцатом году своего возраста о. Макарий прямо со школьной скамьи попал в самый кипучий водоворот жизни, т. е. вступил, как он выражается, «в коммерческий круг», доселе ем у знакомый лишь понаслышке. Из мальчика он сразу превратился в юношу, Михаила Ивановича, сделался «подручным» человеком отца, а для посторонних «хозяйским сыном» или даже настоящим хозяином. Резким и в высшей степени тяжелым показался такой переход для Михаила Ивановича. Из его памяти еще не изгладились воспоминания о родительских подзатыльниках и окриках, которыми часто наделял отец, редко появлявшийся в семье, в период детского воспитания, а теперь ежечасно и ежеминутно предстояло быть на глазах требовательного и строгого отца. Поэтому Михаил Иванович на первых порах своей деятельности коммерческой «всего боялся», опасался за каждый свой шаг, за каждое свое неосторожное слово. Не будучи знаком с добротою товаров и с их ценами на бирже, он боялся спросить своего отца о том и другом, чтобы не раздражить его или не обидеть, а обращаться за разъяснениями и справками к приказчикам он не хотел, так как, по юношескому и, пожалуй, по природному гонору, в глазах их он старался соблюсти свое хозяйское реноме, свой авторитет, который, как ему казалось, этим уже подрывался. «В товарах ценность более старался сам узнать, – пишет о. Макарий в своем дневнике, – но спрашивать стыдился и боялся». Вскоре же Михаилу Ивановичу представился случай разыграть роль уже настоящего хозяина.
В 1836 году в ноябре месяце Иван Дионисьевич с супругой отправился в Москву на свадьбу старшего сына Василия Ивановича, который сосватал себе девушку «образованную, с благородной душой, но в высшей степени занятою собой» из фамилии Гжельцевых. Дома хозяином оставлен был Михаил Иванович. Казалось бы, что теперь вне отцовского глаза он мог бы пожить свободнее и в свое даже удовольствие, но на самом деле не так было. К великому огорчению Михаила Ивановича в доме родителей в это время проживал случайно для излечения глаз слепой дядя по отцу Кондратий Дионисьевич, который, по своему болезненно раздражительному характеру, «на каждом шагу обижал, кричал, бесился, сам не зная за что» на своего племянника. Положение в доме скромного и впечатлительного Михаила Ивановича казалось для него невыносимо тяжелым, и он начал «упадать духом». К этому нужно присоединить и то, между прочим, обстоятельство, что в доме он был совершенно одинок и решительно не находил по душе себе человека, которому бы мог поверить скорби своего нежного доброго сердца, потому что единственно симпатичный ему человек брат Иван Иванович, с которым он «жил довольно ладно», оставил родительский дом еще год тому назад, и оплаканный им, уехал в Тулу для помощи деду. Душевные муки впечатлительного до болезненности юноши убились совершенно неожиданным и непонятным образом для него самого. «1836 года декабря 18 числа Зимний дворец сделался жертвою пламени. Я, – замечает о. Макарий, – страдал за потерю царскую не лучше, сам не зная отчего». Среди этих тяжелых душевных мук, едва понятных в мальчике четырнадцати лет, единственным для него развлечением служило «чтение духовных книг», так как, по его собственному выражению, его «мысль более и более распространялась к духовному». За чтением юноша забывал о житейских треволнениях и неприятностях, так рано выпавших на его долю и для борьбы с которыми у него не было ни жизненного опыта, ни собственных еще не раскрывшихся нравственных сил. Мысль его витала в мире идеальном, где жизнь с ее суетою и скорбями была далеко за крепкими монастырскими забралами, где царствует братская любовь и вечная благодатная тишина, где денно и нощно люди подобно ангелам от глубины своих сердец воссылают горячие молитвы к Творцу своему… Большим контрастом для идеалиста юноши казалась, после этих сладостных грез и мечтаний, жизнь, его окружающая, серая действительность с ее постоянными буднями, и невольно для него самого «мысль его озарялась неземным желанием – быть последним рабом какой-нибудь обители». Правда, о. Макарий об этом своем юношеском желании замечает, что оно «посеялось видно на камени», т. е. не перешло в область действительного, не осуществилось тотчас же на деле, так как «солнце – частые посещения гостей дяди и из больницы и других – его развлекали», но на самом деле едва ли не это именно «неземное желание» и заронило в душу будущего аскета ту искру небесного огня, которая до времени лишь тлела, но потом, спустя долгое время, совершенно непонятным также для него самого образом, вдруг вспыхнула ярким пламенем, охватившим все его существо и поднявшим со дна его души полусознательное юношеское желание до такой высоты, что он на деле, самым настоящим образом взялся осуществить свои юношеские мечты и, как показала его жизнь, успел и сумел их осуществить.
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Русские на Афоне. Очерк жизни и деятельности игумена священноархимандриата Макария (Сушкина)"
Книги похожие на "Русские на Афоне. Очерк жизни и деятельности игумена священноархимандриата Макария (Сушкина)" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Алексей Дмитриевский - Русские на Афоне. Очерк жизни и деятельности игумена священноархимандриата Макария (Сушкина)"
Отзывы читателей о книге "Русские на Афоне. Очерк жизни и деятельности игумена священноархимандриата Макария (Сушкина)", комментарии и мнения людей о произведении.