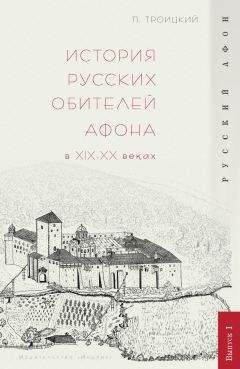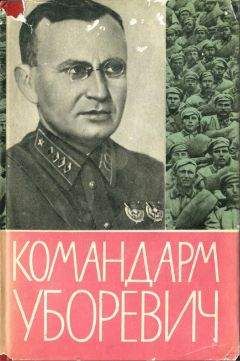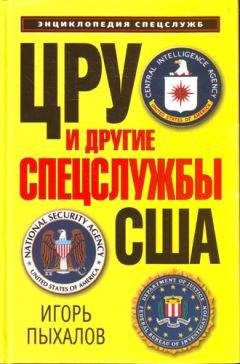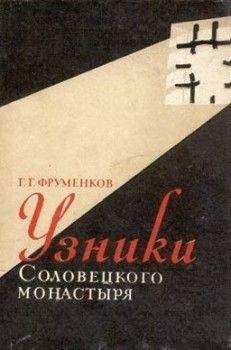Алексей Дмитриевский - Русские на Афоне. Очерк жизни и деятельности игумена священноархимандриата Макария (Сушкина)
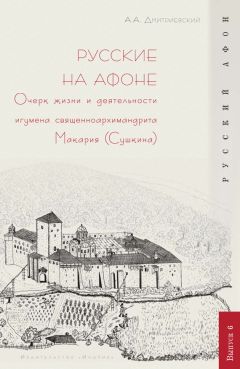
Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.
Описание книги "Русские на Афоне. Очерк жизни и деятельности игумена священноархимандриата Макария (Сушкина)"
Описание и краткое содержание "Русские на Афоне. Очерк жизни и деятельности игумена священноархимандриата Макария (Сушкина)" читать бесплатно онлайн.
У каждого большого дела есть свои основатели, люди, которые кладут в фундамент первый камень. Вряд ли в православном мире есть человек, который не слышал бы о Русском Пантелеимоновом монастыре на Афоне. Отца Макария привел в него Божий Промысел. Во время тяжелой болезни, он был пострижен в схиму, но выздоровел и навсегда остался на Святой Горе. Духовник монастыря о. Иероним прозрел в нем будущего игумена русского монастыря после его восстановления. Так и произошло. Свое современное значение и устройство монастырь приобрел именно под управлением о. Макария. Это позволило ему на долгие годы избавиться от обычных афонских распрей: от борьбы партий, от национальной вражды. И Пантелеимонов монастырь стал одним из главных русских монастырей: выдающаяся издательская деятельность, многочисленная братия, прекрасные храмы – с одной стороны; непрекращающаяся молитва, известная всему миру благолепная служба – с другой. И, наконец, главный плод монашеской жизни – святые подвижники и угодники Божии, скончавшие свои дни и нашедшие последнее упокоение в костнице родной им по духу русской обители.
В 1839 году была сделана новая попытка привлечь в русский Пантелеимоновский монастырь русских монахов. По приглашению монастырских властей в обители поселился иеросхимонах духовник Павел[58] с несколькими русскими монахами, которые вышли из состава братии Ильинского малороссийского скита, по случаю происходивших в нем беспорядков. Но о. Павел прожил в монастыре всего только восемь месяцев и скончался, оставив монастырю весьма почтенную сумму денег в 70 000 (около 7 тысяч рубл.) пиастров, которая дала возможность хотя несколько поправить расстроенные финансы монастыря. Оставшаяся братия из русских после кончины своего духовника, с благословенья о. игумена Герасима, обратилась к о. Арсению[59], знаменитому в ту пору подвижнику и опытнейшему духовнику всех русских, рассеянных еще по многочисленным калибам и келлиям Святой Горы, с просьбою, чтобы он перешел с своими учениками на постоянное житье в русский Пантелеимоновский монастырь и собрал бы около себя братию из русских. Старец Арсений отказался принять на себя непосильный уже для его преклонного возраста труд и предложил старцам обители, не без их желания, выбор свой остановить на его ученике о. Иоанникии, проживавшем тогда на келлии св. пророка Илии, близ Ставроникитского монастыря, с двумя своими учениками. О. Иоанникий сначала решительно отказывался, так как поселение его в Руссике было связано с необходимостью принять рукоположение в иеромонаха, чего он всегда страшился, но, убежденный своим старцем Арсением, перед авторитетом которого он благоговел, он, наконец, согласился, продал свою келлию, раздал свое имущество сиромахам русским и 20 октября 1840 года переселился со своими учениками в Пантелеимоновский монастырь. 18 числа ноября месяца о. Иоанникий (в схиме Иероним) был рукоположен Григорием, митрополитом Адрианопольским, в иеродиакона, а 21 того же месяца в иеромонаха и благословлен[60] быть духовником для русской братии[61].
Какова же личность этого организатора русского Пантелеимоновского монастыря, дух и направление которого еще живы в монастыре и до наших дней, и этого могучего борца за русское дело на Святой Горе? Мы лично не были знакомы с о. Иеронимом, скончавшимся в 1885 году 14 ноября, а поэтому принуждены обрисовать его высоконравственный образ словами лиц, хорошо его знавших. Вот какой отзыв дает о нем ученик о. Иоанникия и даже сожитель его по Ильинской келье инок Парфений, служивший при нем некоторое время за повара и за пекаря, и за чтеца и за канонарха.
Гравюра с видом Святой Афонской Горы и обителей на ней. Изднание Пантелеимоного монастыря 1843 г.
«Отца же Иоанникия (Иеронима тож) рассмотрел, – пишет о. Парфений, – и нашел в нем великого и ученого мужа, во внешней и в духовной премудрости искусного и в Божественном и отеческом Писании много начитанного и сведущего. Хотя и аз много читал книг, но против его – как капля против моря: и по вся часы от него пользовался; что бы аз от него ни спросил, – скорый давал мне ответ. И весьма был кроток и снисходителен; мог все немощи наши нести так, что аз во всю жизнь мою такого кроткого и терпеливого не видал, и во всех добродетелях совершен был; не словом учил, но во всем делом показывал, и во всем образ был нам – и словом был сладкоглаголив, тверд и рассудителен и такую имел силу в слове, что хотя бы был каменный сердцем, и то мог всякого уговорить и в слезы привести, и всякого мог увещать и наставить на истинный путь… Росту был высокосреднего, волосы длинные светло-русые, борода длинная и широкая русая, лицом чист и бел и всегда весел, взгляд самый приятный, но весьма бледен и худощав от великих подвигов и от слабого здоровья, часто с нами занимался в духовных разговорах и часто проводили до самой утрени без сна. За счастие почитали, когда он с нами займется такою беседою: мы забывали свое естество и сон. И столько прилепилось сердце мое к нему и возлюбила душа моя его, что за великую потерю считал, аще который час его не мог видеть и слышать от него полезное слово; когда увидим его лице – забываем сами себя. И положил я намерение никогда от него не разлучаться даже до смерти. А когда он случался болен[62], то мы те дни плакали и просили Бога да подаст ему здравие»[63]. Нарисованный портрет о. Иоанникия хотя принадлежит перу его страстного поклонника и писан в период начальной поры его аскетической жизни, тем не менее нельзя ему отказать в правдивости и в замечательном сходстве с оригиналом. Сохранившиеся живые воспоминания об этом старце в Пантелеимоновском монастыре до настоящего времени служат тому самым убедительным доказательством. Это с одной стороны, с другой – мы имеем перед собою более художественный портрет сего великого старца, нарисованный более опытною рукою и уже в период физической и моральной его зрелости, портрет, который не только не противоречит первому, а напротив, указывает нам ту нравственную высоту, до которой поднялся, идя прямою дорогою от молодых лет до старости, покойный о. Иероним. Этот второй отзыв сделан недавно покойным о. К. Леонтьевым, бывшим солунским консулом, более года в 1871 году прожившим на Афоне, как для целей дипломатического характера, так и для удовлетворения своей всегда ему присущей наклонности к созерцательной жизни. К. Леонтьев[64] стоял в очень близких отношениях к обоим старцам русского Пантелеимоновского монастыря: к о. Иоанникию и о. Макарию, и на его правдивый отзыв мы можем вполне положиться. «О. Иероним, – пишет К. Леонтьев, – стал духовником и старцем еще немногочисленной тогда русской братии в монастыре св. Пантелеймона. Это был не только инок высокой жизни, это был человек более чем замечательный. Не мне признавать его святым – это право церкви, а не частного лица, но я назову его прямо великим: человеком с великой душою и необычайным умом. Родом из не особенно важных старооскольских купцов[65], не получивши почти никакого образования, он чтением развил свой сильный природный ум и до способности понимать прекрасно самые отвлеченные богословскиея сочинения, и до уменья проникаться в удалении своем всеми самыми живыми современными интересами. Твердый, непоколебимый, бесстрашный, предприимчивый; смелый и осторожный в одно и то же время; глубокий идеалист и деловой донельзя: физически столь же сильный (?), как душевно; собою и в преклонных годах еще поразительно красивый. Отец Иероним без труда подчинял себе людей, и даже замечал, что на тех, которые сами были выше умственно и нравственно, он влиял еще сильнее, чем на людей обыкновенных. Оно и понятно. Эти последние, быть может, только боялись его; люди умные, самобытные, умеющие разбирать характеры, отдавались ему с изумлением и любовью». «Я, – говорит К. Леонтьев, – на самом себе, в 40 лет испытал эту непонятную даже его притягательную силу. Видел это действие и на других»[66]. «Отец Иероним был человек железной воли по преимуществу. Его внутреннее „самование“[67], вероятно, имело целью прежде всего смягчить свое сердце, сломать, смирить свою по природе гордую волю. Возможно также, что именно с намерением отстранить от себя все искушения власти над чем бы то ни было он так упорно и долго отказывался от иеромонашества и в России и на Афонской Горе, и только самое строгое повеление его святогорского наставника, старца Арсения, вынудило его принять хиротонию… Отец Иероним был до того всегда покоен и невозмутим, что я, – замечает К. Леонтьев, – имевший с ним частые сношения в течение года с лишком – ни разу не видал – ни чтобы он гневался, ни чтобы он смеялся, как смеются другие. Едва-едва улыбнется изредка, никогда не возвысит голоса, никогда не покажет ни радости особой, ни печали. Иногда только он немного посветлее, иногда немного мрачнее и суровее. А между тем он все чувства в других понимал, самые буйные, самые непозволительные и самые малодушные. Понимал их тонко, глубоко и снисходительно. Все боялись его и все стремились к нему сердцем»[68].
Вид русского монастыря св. великомученника Пантелеимона на Святой Афонской Горе с южной стороны снятый с натуры. Издание в пользу монастыря. 1858 г.
Вот в руки такого-то опытного духовника-старца, человека с сильным характером и редкою жизненною выдержкою, таланта-самородка, стоявшего целой головою выше всех его окружающих, вверило Провидение судьбы русского Пантелеимоновского монастыря, доведенного до крайнего убожества и едва не вычеркнутого из списка святогорских обителей. Вера в лучшее будущее русского монастыря, обаяние личности духовника и глубокого старца игумена Герасима, окруженных ореолом высоких качеств ума и сердца среди тогдашних насельников Святой Горы, а главное безотрадное положение русских людей среди иноков других национальностей – все это, вместе взятое, было достаточным побуждением для этих последних, оставив свои бедные калибки и естественные пещеры, искать себе приюта в бедной, но гостеприимно открывшей свои двери русской Пантелеимоновской обители. В непродолжительное время около о. Иеронима обра зова лась довольно значительная кучка русских людей, отдавших себя в безусловное подчинение беззаветно любимому ими опытному духовнику и игумену монастыря, искренно желавших все силы свои посвятить на благо обители. Нелегкая задача предстояла о. Иерониму, если не слить два разноплеменные и разнохарактерные элемента в одно целое, то благоразумными внушениями примирить их, так как предыдущий опыт при о. Аниките показал, что без взаимных уступок жизнь совместная греков и русских под одною кровлею была немыслима. Отдавая предпочтение грекам в обители, как некоторого рода хозяевам, он постоянно внушал русской братии, чтобы они не входили в споры и разногласия с греками, а стремились бы к той цели, ради которой пришли в монастырь, т. е. к спасению своей души, для чего необходимы мир и братская любовь. Строгий киновиальный образ жизни монахов русского Пантелеимоновского монастыря[69], ежовая обстановка и крайне скудная непривычная для русского человека пища, с чем греки-монахи легко уживались, – все это для русских иноков казалось тяжелым и трудно выносимым подвигом. В этом отношении невеселую картину жизни русских иноков Пантелеимоновского монастыря рисует даже и такой восторженный певец афонских красот и афонской иноческой жизни, как о. Серафим Святогорец. «Надобно, впрочем, сознаться, – пишет он, – что бдение не столько утомляет мою болезненную плоть, сколько здешняя трапеза: боб, и фасоль, чечевица и ревит – все эти и подобные им произведения святогорских нив сами по себе очень вкусны и питательны, – но тяжелы, так тяжелы для слабого желудка, что я нередко чрезвычайно страдаю от них, и мои жизненные силы истощаются… Исправить трапезу, судя по стеснительному положению Руссика в настоящее время, почти нет возможности… Я вижу многих из братий в одинаковом со мною изнеможении от влияния трапезы… В то время, как Руссик имел рыбные ловли на Дунае[70], некоторые из нашего братства чрезвычайно скорбели и жаловались на боб и фасоль, исключительно составлявшие нашу трапезу, и просили духовника озаботиться улучшением стола, – тем более, что тогда Дунай мог лакомить нас прекрасною рыбою. Частые жалобы изнемогающей братии слишком озабочивали духовника, так что он решился, наконец, передать их геронте (т. е. игумену). Мы это знали, надеялись на добросердечие геронты, и одна мысль о близкой измене трапезы из неудобоваримой в легкую питательную, в русском вкусе, утешала нас, была часто предметом братских бесед»[71]… Заботливый о. Иероним, конечно, сознавал справедливость этих жалоб, болел душою, но удовлетворить желание братии не было у него сил. Как во многих других случаях, так и в настоящем опытный духовник успокоил взволнованные умы, благодаря своей находчивости, рассказом о чудном видении, бывшем одному из братий, более других недовольному трапезою. Рассказ, изложенный о. Серафимом в его письмах к друзьям, произвел глубокое впечатление на всю братию, которая, по словам Святогорца, «оставила плотоугодные жалобы на трапезу, довольствуясь тем, что поставят»[72].
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Русские на Афоне. Очерк жизни и деятельности игумена священноархимандриата Макария (Сушкина)"
Книги похожие на "Русские на Афоне. Очерк жизни и деятельности игумена священноархимандриата Макария (Сушкина)" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Алексей Дмитриевский - Русские на Афоне. Очерк жизни и деятельности игумена священноархимандриата Макария (Сушкина)"
Отзывы читателей о книге "Русские на Афоне. Очерк жизни и деятельности игумена священноархимандриата Макария (Сушкина)", комментарии и мнения людей о произведении.