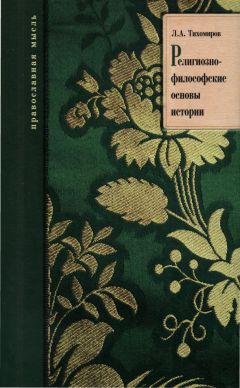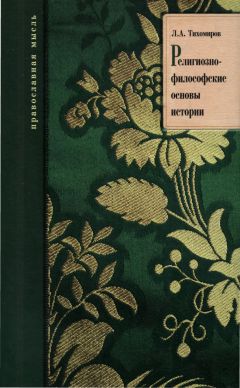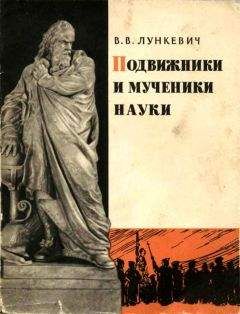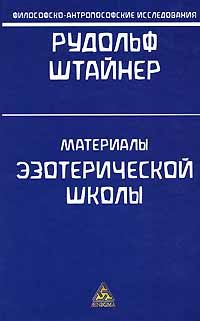Пьер Паскаль - Протопоп Аввакум и начало Раскола
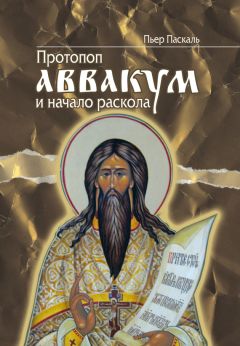
Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.
Описание книги "Протопоп Аввакум и начало Раскола"
Описание и краткое содержание "Протопоп Аввакум и начало Раскола" читать бесплатно онлайн.
Классический труд выдающегося французского слависта Пьера Паскаля (1890–1983), принесший ему заслуженную мировую славу, впервые переведен на русский язык. За него будущий профессор кафедры русского языка и литературы в Сорбонне был удостоен ученой степени доктора славяноведения «с наивысшим отличием». Сразу после своего первого издания в 1938 г. монография на многие десятилетия сделалась настольной книгой по истории русского религиозного катаклизма второй половины XVII века и не утратила своей научной ценности до наших дней. Книга, написанная на основании сравнительного исследования многочисленных первоисточников, с которыми французскому ученому довелось в 1920–1930-е годы работать в московских архивах, является наиболее полной в мире биографией протопопа Аввакума, своеобразной энциклопедией раннего старообрядчества. Написанная прекрасным литературным языком, с привлечением огромного пласта документов той эпохи, работа, которую можно назвать образцом научной прозы, детально и объективно прослеживает глубинные причины Раскола Русской Церкви, трагические последствия которого сказываются до сих пор.
Аввакум, ставший молодым человеком, знал много, и не только применительно к своему времени. Читая его внимательно, мы видим, что, будучи сведущими в некоторых областях, мы часто не знаем того, что он знал. Но в его время наука не была самоцелью, Все установки Азбуки говорят об этом: наука, эта суета сует, порождает гордыню; чтение хорошая вещь, но только при молитве и работе. Ни ритор, ни философ не могут быть христианами[306]. Образование было исключительно христианским; оно не сбивалось в сторону, ни направо, ни налево, ни к чистому умозрению, ни к исследованиям об устройстве природы. Ничто эстетическое его также не отвлекало от цели. Оно стремилось к одной и единственной цели: служить Богу и внешним культом, и моральным усовершенствованием. Оно создавало в лучшем случае людей, внимательно относящихся к себе и своему ближнему и даже к устройству внешнего мира, людей, способных исследовать второстепенные истины внутри системы мироздания, но людей, недоступных метафизическому сомнению, людей, рассматривающих все вещи с точки зрения вечности. Отсюда возникла странная смесь критического разума и узости взглядов, героической искренности и предвзятого мнения, взаимного уважения и несправедливости. Таковы были свойства русских того времени, которые не могли не поражать современных западных людей, наследников Ренессанса.
У Аввакума есть одна черта, которая выявляет необычайный ум. В этом XVII веке, в котором великие умы находятся в оковах предрассудков, в котором простой люд примешивает к своему христианскому чувству тысячу ненужных выдумок, в которых церковный обряд часто недопонимается, этот русский деревенский житель верит только в прямое, канонически признанное наставление Божие. Если ему и известны прекрасные повести, которые содержатся в апокрифах и в Палее, он им не очень-то доверяет[307]. Если позднее, в окружении даурских лесов, Аввакум примет всерьез религиозные обряды шамана[308], то это только потому, что древние отцы церкви также находили сатану в языческом культе. Если ему часто видятся ангелы и злые духи, то это в принципе не отрицалось как возможность самыми строгими богословами. Он допускает, чтобы оплакивали умерших, но возбраняет, чтобы в память их люди упивались водкой и пивом и чтобы женщины голосили[309]. Он придает формам культа чрезвычайную важность, но он совершенно их не отделяет от внутренней настроенности души. Аввакум извлекает из веры полнейшее удовлетворение своему разуму и сердцу; он совершенно свободен от всякого суеверия.
IV
Его игры и личные отношения в Григорове
Молодой Аввакум не всегда был занят чтением или философствованием о жизни и смерти. Было бы совершенно неправильно изображать его мрачным затворником. Напротив, это был деревенский мальчик, воспитанный грубоватым образом, ходивший летом почти нагим, а зимой носивший бараний тулуп, спавший прямо на полу, не раздеваясь целую неделю. Каждую субботу он парился до пота и стегал себя веником в семейной бане, а затем выбегал и окунался с наслаждением в пруд, который еще можно видеть и теперь в Григорове около церкви, или же катался голым по снегу с веселым криком. Позднее он принимал участие в боях «стенка на стенку» между парнями своей деревни или против соседних сел; драки были серьезные, где сражались кулаками и дубинками; часто избивали друг друга до крови, а иногда и до смерти, состязаясь в силе и упорстве; он слышал ругань, ту русскую непристойную ругань, которая, если ее разобрать, даже цинична, но всегда надо помнить, что ее повторяют обычно машинально, так что она теряет свой смысл и только оттеняет характер фразы. Как крестьянин, он черпал, естественно, яркие образные выражения из жизни животных и людей. Он широко пользовался этими выражениями, точными и ярко окрашенными, нередко творящими незабываемые образы, часто содержащими простые и убедительные доводы, или же свободный поток мыслей, внезапные взлеты мысли и чувства. Все это он тогда еще пропускал через призму своего простецкого и литературно нетребовательного здравого смысла, а потом использовал в своих писаниях.
Молодой попович был большой любитель голубей: он их приручал под крышей своей избы. Затем, вооружившись шестом, он забавлялся тем, что гонял их и смотрел, как они взлетают, кувыркаются, гоняются друг за другом и возвращаются в гнезда; он нередко приманивал и соседских голубей; для этого надо взять самку, смазать ей зоб душистым растительным маслом, затем отпустить ее, вслед за чем она приводит самцов, которых соблазнит тот приятный запах; таким же образом и по сей день приманивают диких голубей. Эти привычные забавы и до сего дня еще в ходу у русских подростков[310].
Молодой попович предпочитал бегать по двору, а не сидеть дома. В каменистых окрестностях Григорова ему случалось наталкиваться на змей, и он наблюдал за ними: «А змию-то как бьет кто, так она все тело предаст биемо быти, главу же свою соблюдает, елико возможно: свернется в клубок, а голову-ту в землю хоронит. Я их бивал с молода-ума. Как главы-то не разобьешь, так и опять оживает, а главу-ту как разобьешь, так она и цела, а мертва».
Голуби и змеи – вот два единственных свидетеля его раннего детства, о котором протопоп пожелал вспомнить, давая совет своим ученикам: «Будьте кротки как голуби и мудры как змеи»[311].
Григорово вовсе не было глухим местечком. Там были не только церковь и кабак, там была еще третья принадлежность сельского центра – базар, где в субботу встречались люди, прибывшие из разных деревень для покупки ржи и овса, которых у них была нехватка, поскольку в Григорове все было распахано, а окрестные земли были еще мало распаханы. В Григорове была и мельница. Селение было сравнительно старое; в 1607 г. оно уже существовало как приход. У него была тенденция расширяться; из 36 крестьянских дворов с 49 душами взрослого мужского населения в 1621 г. оно выросло в 1646 г. до 150 дворов с 483 душами мужского населения, причем теперь в каждом дворе насчитывались и дети. В общем теперь тут была тысяча жителей[312]. Аввакум как раз был свидетелем этого роста.
Старое селение Григорово было даровано в качестве родового поместья Федору Волынскому в награду за защиту Можайска от Владислава в августе 1618 г.: передача ему Григорова произошла в 1619–1620 гг. Обычно такие изменения были скорее убыточными для населения. Власти, если только им удавалось взимать повинности – 5 рублей 22 алтына и 3 денги в 1608 г., 7 рублей в 1620 г., совершенно не вмешивались в повседневную жизнь. Земельный собственник, у которого было поместье, должен был быть по возможности более требовательным. Но в его интересах было увеличение населения.
Теперь земля была разделена: была пашня помещика, обрабатываемая наемными работниками, и пашня общинная; за эту пашню община платила повинности деньгами и натурой. Приказчик наблюдал на месте за интересами своего хозяина. В 1621 году помещик владел 25 четвертями в каждом трехполье, в общем 37,5 га, которые, благодаря десяти работникам, были в хорошем состоянии. Работники жили вместе, образуя один двор; большая часть полей была все же во владении общины: итого, было 120 га с трехпольной системой землепользования, затем было еще 50 га полей под долгим паром; в общем это все были хорошие земли. Помещик, правда, получал, помимо этого, доходы от кабаков и от пошлины на товары, которые привозили на базар. У церкви были собственные земельные угодья: 30 га пашни, на урожай с которых жили церковные служители: три семьи священника, пономаря и церковного сторожа, затем была еще почтенная вдова, на которой лежала обязанность выпекать просфоры. Помимо того, было девять местных семейств, которые занимали столько же домишек в поповке[313].
Хотя нам и известен послужной список Федора Волынского, но мы ничего не знаем о его характере. Уже в зрелом возрасте, постоянно находясь в дальних отъездах, будучи последовательно воеводой Вязьмы, Холмогор, Дорогобужа, Астрахани[314], он, вероятно, не очень-то сильно выжимал соки из своих крестьян[315]. В те времена, когда крепостное право только еще устанавливалось, община имела большое влияние: она избирала старосту и десятских – нечто вроде исполнительной и судебной власти; эта власть сама производила разверстку и земли, и соответствующих повинностей; община была хозяином в своей церкви, она собиралась беспрепятственно, могла посылать в Москву коллективные жалобы и челобитные; она была сильна благодаря своей сплоченности, своему массовому характеру, своей способности противостоять властям, пассивно или открыто. Это было самоуправление, очень активное, глубоко укоренившееся в быту, которому приказчик, правда, мог препятствовать в его деятельности или указывать, но которое он не мог уничтожить[316].
Для ребенка, до известной степени разбирающегося в характере и переживаниях, было что наблюдать и усвоить в этой разнородной социальной среде Григорова, полной жизни, движения, стремящейся к успеху, в общем благоденствующей. Тут были: поповка со священнослужителями, церковнослужители и нищие; работники, которые тяготели к дому помещика, наверное, и пришлый люд, который бродил по свету; далее община, одновременно и единая, и разделенная: многочисленные семьи зажиточных хлебопашцев, с давних пор осевших здесь и в достаточном количестве владевших землей, сельскохозяйственными орудиями, скотом и имевших подсобных рабочих, несшие всю тяжесть общинных обязанностей, и, с другой стороны, семьи, по той или иной причине неспособные принять на себя эти тяготы и, как следствие, лишенные пахотной земли, владеющие только своим приусадебным участком. Были тут еще и ремесленники, и мелкие торговцы, которые порой могли достичь известного достатка, но неустойчивого, одним словом, «бобыли»; их было 12 дворов в 1621 и 39 в 1646 г.[317] Наконец, имелись еще власти, выборные от общины, десятские, повытчики, держатели кабаков, приказчик помещика. Какие сложные отношения, сколько хитростей и дипломатии, сколько насилия и несправедливости, сколько низости и компромиссов! С другой стороны, какие прекрасные характеры, какая трогательная преданность, какие храбрые поступки, сколько природного ума, сколько душевной чуткости. Мир этот – целый мир в миниатюре.
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Протопоп Аввакум и начало Раскола"
Книги похожие на "Протопоп Аввакум и начало Раскола" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Пьер Паскаль - Протопоп Аввакум и начало Раскола"
Отзывы читателей о книге "Протопоп Аввакум и начало Раскола", комментарии и мнения людей о произведении.