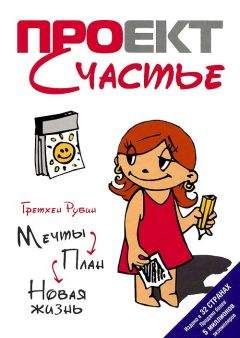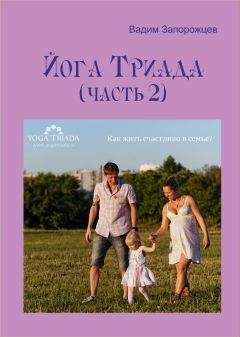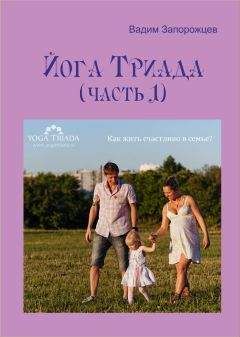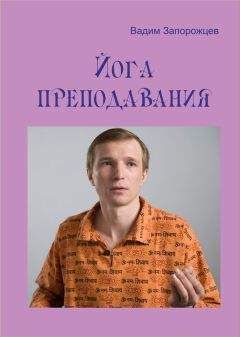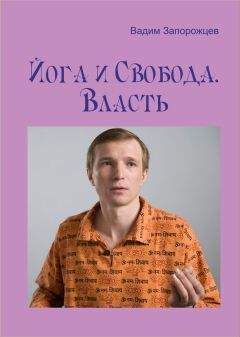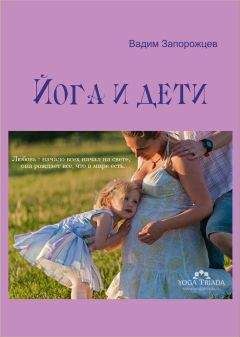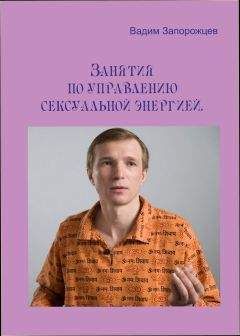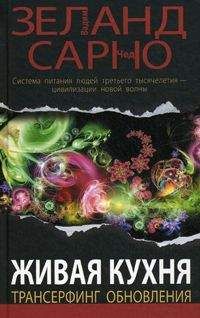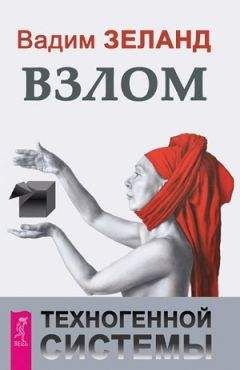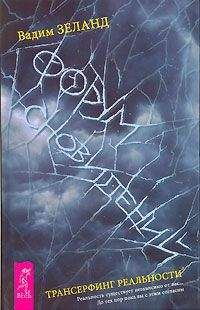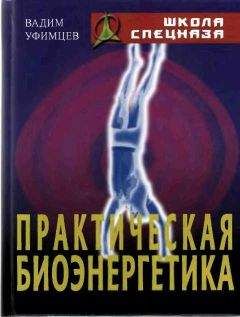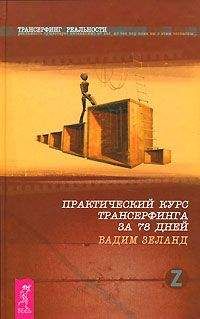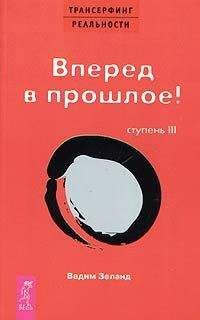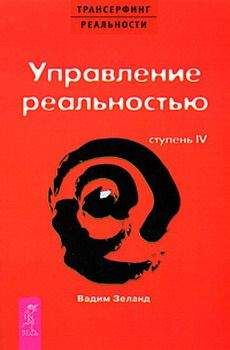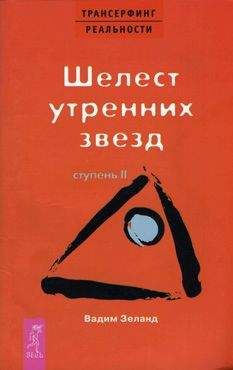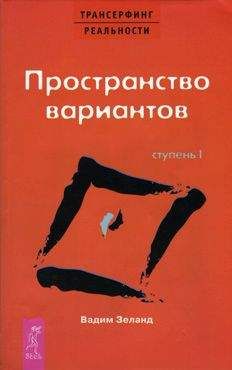Вадим Бакусев - Лестница в бездну
Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Лестница в бездну"
Описание и краткое содержание "Лестница в бездну" читать бесплатно онлайн.
Ницше и европейская психическая матрица. Моей эпохе с чувством глубокой неуместности посвящаю. Вадим Бакусев.
План лестницы.
Но вернемся к войне, в которую Ницше уже потихоньку втянулся именно в «Человеческом, слишком человеческом». Здесь он только еще разворачивает свои боевые порядки, пробует свои силы и, так сказать, проводит разведку боем. Он еще точно не разведал, какой противник перед ним, какие у него силы и боевые средства; сражение (с ницшевской стороны) ведут только передовые отряды, и их донесения главному штабу пока довольно зыбки и не слишком надежны. О тогдашних боевых средствах самого Ницше я уже сказал — но он еще толком не знает, на что их направить, куда бить. Еще в «Рождении трагедии» он, как уже сказано, нащупал две тенденции, два принципа, двойной корень всего европейского. Теперь он пытается яснее различить их в самом теле европейской культуры. Отсюда его теперешняя постановка вопроса: Европа как проблема; культура как проблема.
О том, что, собственно, было этой проблемой на самом деле, Ницше сказал только спустя десять лет, когда приписал к своей книге предисловие[10], где есть такие слова: «Вот она — новая проблема! Вот она, длинная лестница, на перекладинах которой мы сами сидели и взбирались по ним, — мы, какими мы некогда были! Вот перекладина повыше, вот перекладина пониже нас, а вон те — под нами, и это чудовищно длинный порядок, иерархия, которую мы различаем: вот она — наша проблема!». (Не наша ли это, читатель, заодно «лестница в бездну»? Или хотя бы ее прообраз — Ницше тут имеет в виду приставную лестницу с перекладинами?)
До такой постановки вопроса тогда он еще не добрался, то ли «взбираясь» к ней, то ли, наоборот, спускаясь глубже (что, в сущности, для него одно и то же), — но главную нить, саму интуицию иерархии, а, стало быть, и ее противоположности, он уже нащупал и впредь не отпускал. Он очень много, гораздо больше, чем в других книгах, рассуждает в этой своей книге о культуре вообще и о двух культурах — высшей и низшей, и это уже само по себе означает установление некоторой иерархии. Означает это и разбросанность, фазу поиска — позднее он все больше концентрируется на проблеме культуры, сужая пространство поиска.
Надо сказать, никакого законченного концепта культуры (не говоря уже о ее определении) у Ницше так и не сложилось — можно только проследить постепенно сближающиеся траектории, по которым его мысль двигалась к такому концепту, начатки перспективы, и выяснить хотя бы его несомненное ядро; если бы эти линии у него сошлись, результат мог бы, я думаю, оказаться в чем-то похожим на мое собственное понимание культуры. Не совершаю ли я тем самым некоторое интеллектуальное насилие над своим героем? Мы еще увидим, так ли это.
Начнем с того, что термином «культура» Ницше пользуется вполне традиционно, зато постепенно изменяет его смысловое содержание (в результате термин перестает ему соответствовать). Традиционно — это значит, что его представление можно передать приблизительно таким образом: культура есть система ценностей и конкретных форм их выражения, присущих данному историческому единству, или, как говорит он сам, «синтетическое единство ценностей и целей» (KSA, 12, 9 [35]). Поэтому у каждого конкретного общества и даже у каждой конкретной эпохи этого общества своя «культура» (греческая, немецкая, архаичная и т. д.). Есть и системы ценностей, выходящие за рамки национальных культур, — например, христианская «культура». В таком значении[11]термином «культура» Ницше пользуется, можно сказать, чисто формально (но даже тогда в нем угадывается позднейший смысловой стержень, например: «Различные культуры суть различные духовные климаты, каждый из которых преимущественно губителен или целителен для того или иного организма. История в целом как знание о различных культурах есть фармацея, а не сама медицина» — афоризм 188 «Странника и его тени»).
Этим же термином он пользуется, однако, и более содержательно, но зато в некотором смысле и более неопределенно. Во-первых, как я уже сказал, он констатирует наличие низшей и высшей культуры. Во-вторых, он противопоставляет культуру сначала (в «Человеческом, слишком человеческом») варварству, а потом, много позже, — цивилизации (как «одомашниванию» человека; впрочем, он мог сказать и «цивилизованные культуры»). Наконец, в-третьих, он различает в ней признаки, глядя на которые ее можно уже мыслить более отчетливо.
Вот какие это признаки[12]: победа мужского начала над женским; аристократизм («отбор лучших за счет толпы»)[13]; неморальные предпосылки (или «признание имморальности»); признание и использование «ужасающих сторон жизни» как позитивных и даже желательных (то есть, по сути дела, «дионисовское» требование целостности восприятия и приятия жизни[14]); и наконец «пессимизм силы» как отказ от «оправдания несчастья». «Этот пессимизм силы тоже заканчивает теодицеей, то есть абсолютным приятием мира, однако ради тех соображений, по которым прежде его отвергали — а это значит, пониманием этого мира в качестве на деле достигнутого наивысшего идеала…» (KSA, 12, 10 [21]).
В общем, можно сказать, что Ницше пользуется термином «культура» то так, то этак, без особого различения, подобно старому Платону, у которого вообще не было никакого термина (как и у греков вообще — у них было только слово «пайдейа», выражавшее смысл «воспитанность, образованность, цивилизованность»), а потому он пустил в ход привычное слово «справедливость» («дикайосюне»), придавая ему то обычный смысл (воздаяние равным за равное), то неизвестный тогда смысл «эйдос всеобщей жизни как иерархия ценностей»[15]. И все-таки в этой чересполосице у Ницше улавливается некое мощное натяжение, единая направленность: он, кажется, хочет рассматривать всю историю как динамику силы и слабости жизни, ее подъемов и спадов, подходя к ней с совсем иным критерием, чем строение обществ, — например, в одном из фрагментов он говорит: «вместо “общества” —комплекс культуры: вот мой главный интерес (<он —> как бы целое относительно своих частей)» (KSA, 12, 10 [28]).
Все это хорошо (скажет недоверчивый читатель — и пока будет прав в своем недоверии), но какое отношение имеет проблема культуры к матрице и к ее познанию, не говоря уже о борьбе с нею? Ответ на этот законный вопрос будет таким.
Уже раньше Ницше обнаружил связь аполлоновского начала в его сократическом, то есть теоретико-рациональном, модусе с демократией (хотя связал их ненадежно, только через фигуру Сократа). Теперь ему не оставалось ничего другого, кроме установления — тоже пока очень смутного — близости между аристократией и дионисовским началом: близости на основе воли к трагическому приятию жизни во всей ее полноте и, стало быть, волевого, а потому иррационального начала в жизни вообще. Но аристократически-волевое иррациональное начало неизбежно связано с принципом личности, а демократически-рациональное — с его отрицанием в пользу всего коллективного. Окончательными же динамическими свойствами того и другого будут соответственно ослабление и усиление жизни, ее спады и подъемы.
Тут эта еще далеко не завершенная картина ницшевского представления о культуре постепенно осложняется и одновременно как-то неожиданно обогащается мучительной раздвоенностью: дело в том, что хотя культура как некоторая иерархия или негэнтропия, как усиление жизни абсолютно необходима, однако столь же необходимыми Ницше видятся уже не только подъемы жизни (в форме собственно культуры), но и ее спады (в форме, естественно, ее противоположности, варварства) и в каком-то смысле самоотрицание[16]. Он говорит о «необходимости варварства («куда относится и религия», о том, что «человечество должно жить циклами, и это — единственная форма его долголетия», о том, что «культура должна существовать не как можно дольше, а как можно короче, но интенсивней» (KSA, 10, 2 [5]).
Означает ли это в его представлении некоторую музыкальную ритмичность, естественное и необходимое для всякой жизни чередование расслаблений и напряжений, или это форсированное проявление всеприятия существования во всех его видах, в том числе и самых одиозных? Последнее противоречило бы собственной установке Ницше на негэнтропийную избирательность, отбор и иерархию, поскольку равнозначно их энтропийному отрицанию. Оно ей и противоречит, но в этом нет ничего странного — ведь битва, которую он вел, была тотальной и, следовательно, была желательной битвой и с самим собой тоже. Такие битвы человек никогда не заканчивает сам, и тот, кто хочет в них участвовать, должен продолжать их на свой страх и риск, — а уж исход этого продолжения может оказаться каким угодно. Вышеупомянутая избирательность здесь принципиально предоставлена именно этим участникам ницшевских битв: Ницше прямо-таки заставляет их вступать и в свои собственные внутренние, а может быть и внешние битвы…
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Лестница в бездну"
Книги похожие на "Лестница в бездну" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Вадим Бакусев - Лестница в бездну"
Отзывы читателей о книге "Лестница в бездну", комментарии и мнения людей о произведении.