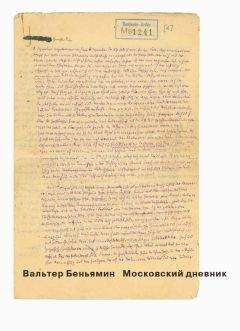Виктория Торопова - Сергей Дурылин: Самостояние

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Сергей Дурылин: Самостояние"
Описание и краткое содержание "Сергей Дурылин: Самостояние" читать бесплатно онлайн.
Перед читателями — первая биография крупного учёного — литературоведа, театроведа и историка театра, этнографа и археолога, поэта и прозаика, религиозного мыслителя, автора бесценной биографии художника М. В. Нестерова в ЖЗЛ, интереснейших исследований о Гоголе, Лермонтове, Пушкине, А. Островском, Ермоловой, Гёте, книги мемуаров «В своём углу» (называем только часть опубликованных работ).
Яркий представитель Серебряного века русской культуры, он до недавнего времени оставался в тени известных его современников, хотя был в гуще интеллектуальной жизни века революционных потрясений и войн, которые отразились и на его судьбе. Проза и поэзия Дурылина, некоторые научные труды много десятилетий пролежали в архиве и только в наши дни приходят к читателю. В своём загородном доме в Болшеве (сейчас здесь находится мемориальный музей) Сергий Дурылин духовно окормлял многих приезжавших к нему выдающихся деятелей культуры уже советского времени.
Автор книги В. Н. Торопова, лауреат литературной премии имени С. Н. Дурылина, дружила с Ириной Алексеевной Комиссаровой-Дурылиной — духовной дочерью и гражданской женой Дурылина, которую тот называл своим «ангелом-хранителем». Рассказы Ирины Алексеевны, её записки составили бесценный материал, который тоже, наряду с архивными документами, помог автору в создании жизнеописания этого незаурядного человека.
знак информационной продукции 16 +
В 1913 году на общем собрании Общества изучения Олонецкой губернии под председательством А. Ф. Шидловского Дурылин был избран действительным членом общества. Шидловскому — вице-губернатору Олонецкой губернии, краеведу — Дурылин посвятил статью «Из скитаний по русскому Северу (На Заячьих островах)», опубликованную в «Известиях Архангельского Общества изучения Русского Севера» (1912). Через год там же была опубликована статья «Древнерусская иконопись и Олонецкий край», переизданная отдельной книжкой в Петрозаводске[65].
Работы Дурылина, посвящённые Северу, до сих пор не утратили своей актуальности. И через 100 лет после их написания в 2013 году по материалам этих статей Е. А. Агеевой был сделан доклад на Всероссийской научной конференции «Святые и святыни Обонежья», которая прошла в Пудожском районе Карелии на Водлозере, где побывал в своё время Дурылин.
(Интерес к этнографии проявился ещё в детстве, когда четырнадцати- и пятнадцатилетний Серёжа Дурылин, живя летом на Волге в районе Рыбинска и Ярославля и не читая ещё никаких этнографических книг, увлёкся собиранием этнографического материала: записывал с голоса песни, присказки, зарисовывал и описывал утварь и другие старинные предметы.)
Путешествия по Северу проходили в тяжёлых условиях: чаще шли пешком по трясинам, мхам, оленьим тропам, иногда сутками без сна, полуголодные, мокли под дождём, людей пожирали тучи комаров, на утлых судёнышках плыли по бурлящим озёрам. Физически слабому и не крепкому здоровьем Дурылину непросто было вынести все эти тяготы, однако он пронёс через всю свою жизнь глубокую светлую любовь к Северу.
Игорь Владимирович Ильинский — народный артист СССР — описал путешествие в Олонецкую губернию в 1917 году. «Сергей Николаевич Дурылин собрал несколько своих учеников и повёз нас в далёкую экспедицию от Археологического общества. Путешествие это было особенно увлекательным и оставило неизгладимое впечатление. <…> Мы проходили пешком по тридцать километров в день, плыли целыми днями в лодках и хорошо познакомились с этим краем. Были на знаменитом водопаде Кивач, который сохранял тогда ещё девственную неприкосновенность. <…> Полюбил я всей душой старинные деревянные русские церкви. <…> Более трёхсот вёрст мы проехали на настоящих перекладных. Как будто мы перенеслись в прошедший век и познали казённые „прогонные“ по „открытому листу“, по которым дают лошадей на тракте. Повидали даже „станционных смотрителей“, у которых надо было, как встарь, требовать лошадей. <…> Там, где было много воды и дороги плохие, перекладные иногда заменялись лодками, в которых нас на вёслах везли по озёрам дежурные девки с песнями и весёлыми шутками»[66].
Во время этой поездки Сергей Николаевич и его любимый ученик Коля Чернышёв читают книгу «Общечеловеческие корни идеализма», «устанавливающую философское родство колдуна и Платона в соседстве с колдунами». Беседуют с батюшкой о. Александром «за чаем и морошкой» о колдовстве, о колдунах. Этот интерес не случаен. Колдовские ритуалы интересовали его наряду с фольклором северных народов, говорами, деревянными церквями и древними иконами. Священник Сергей Алексеевич Сидоров — в то время юный друг-ученик Дурылина — вспоминает, как однажды они с Дурылиным 31 января «в день шабаша великого», как стояло в древних книгах, приготовили ведьмовское зелье по рецепту, приведённому у Кизеветтера, и, сидя в корытах в комнате Дурылина в Обыденском переулке, натёрли себя этим зельем. «Я очнулся у окна на полу, — пишет С. Сидоров, — покрытый сверху скатертью и десятым томом Владимира Соловьёва. Память оставила удивительную серую тайну, какой-то пустой нарыв да ненависть ко всему миру, что родил с собою ведьмовский неудачный полёт»[67]. Увлечение оккультизмом было распространено в то время среди интеллигенции, в том числе и среди молодых людей, группировавшихся вокруг издательства «Мусагет». Не избежал его и Дурылин. В той или иной степени к оккультизму, к антропософии были причастны Вячеслав Иванов, Андрей Белый, Павел Флоренский. Популярность оккультических и теософских течений Н. А. Бердяев объясняет «неспособностью церковного богословия ответить на запросы современной души»[68].
ПЕДАГОГ
Коля Чернышёв, Серёжа Сидоров и Серёжа Фудель — ученики-друзья Дурылина. В 1908 году его пригласили домашним репетитором-воспитателем к сыновьям фабриканта С. И. Чернышёва, и вплоть до 1917-го он будет проводить лета в имении Чернышёвых Пирогово на Клязьме недалеко от Мытищ, путешествовать с мальчиками по городам и рекам России, брать их с собой в Оптину пустынь. Коля — старший — станет его близким другом на всю жизнь. Впрочем, как и младшие — Иван и Александр. Так было всегда и со всеми его учениками — они становились его друзьями, духовными детьми. А в одном из сохранившихся писем Варвары Андреевны Чернышёвой — матери учеников Дурылина — есть такие слова: «Нам всем будет очень недоставать Вас летом. Я в этом уверена. Вы вносите столько сердечности и уюта в нашу семью»[69]. Дурылин пишет своему старшему «другу и учителю» Георгию Хрисанфовичу Мокринскому о своих волнениях за судьбу Коли и просит помочь разобраться в целом клубке чувств, мыслей, надежд и опасений, запутавших его самого. «От Коли на меня идёт бесконечная радость, но от Вас не потаю, и великая страда… Тут дело для меня огромное, прекрасное, труднейшее. Я хочу, чтобы Вы подумали обо мне и об этом деле, т. е., значит, и о Коле. <…> Коля для меня не только то, что есть наличность, данность, а ещё и заданность, то, что будет, что должно быть. И тут у меня сердце замирает. <…> С ним у меня завязывается (даже и не это, а завязалось уже) такая большая надежда, что я не могу не жутиться сейчас. <…> Ах, если б Вы знали, как всё это сложно! Иногда я боюсь себя до ужаса — и боюсь себя не за себя только, а и за него, за Колю. Но ничего этого не напишешь как следует. Посмотрите, почувствуйте, подумайте, войдя в нас с ним, в обоих, и как в одно целое, и порознь… и скажите мне, что надумается и начувствуется»[70].
Искусствовед А. А. Сидоров (старший брат Сергея Сидорова) свидетельствовал: «Сергей Николаевич был всегда одним из самых популярных в Москве педагогов. За ним гонялись крупнейшие московские богачи, подманивая его, чтобы он воспитал самых трудно поддающихся балбесов (скорее великовозрастных гимназистов), до того хорошо Сергей Николаевич умел с ними справляться! Это был педагог совершенно прирождённого таланта»[71]. До 1918 года Дурылин преподавал историю литературы в частной гимназии Н. Е. Шписс. Но основная его педагогическая деятельность проходила в семьях, куда его приглашали домашним учителем и воспитателем. В последнее десятилетие своей жизни Дурылин преподавал в Государственном институте театрального искусства (ГИТИС).
Сергей Фудель вспоминает, какие «университеты» они проходили с Сергеем Николаевичем в 1915–1917 годах: «Он водил Серёжу Сидорова, меня и Колю Чернышёва в кремлёвские соборы, чтобы мы через самый покой их камня и красок ощутили славу и тишину Церкви Божией, водил на теософские собрания, чтобы мы знали, откуда идёт духовная фальшь, на лекции Флоренского „Философия культа“, чтобы мы поняли живую реальность таинства; в Щукинскую галерею, чтобы мы через Пикассо услышали, как где-то совсем близко шевелится хаос и человека, и мира; на свои лекции о Лермонтове, чтобы открыть в его лазурности, не замечаемой за его „печоринством“, ожидание „мировой души“ Соловьёва. <…> Те Университеты, которые мы тогда проходили <…> особенно под влиянием С. Н. Дурылина, в главном можно было бы определить так: познание Церкви через единый путь русской религиозной мысли»[72].
Друзья часто собирались или у Сергея Николаевича в Обыденском переулке, или у Фуделей в Плотниковой и устраивали «пиры ума», рассуждали о жизни, о вере, о том, что волновало юные умы, вели «политико-апокалиптические» беседы. Дурылин увлекал в разговоры о событиях в философском мире, в мире поэтов-символистов… Круг тем был широк. Могли мальчики слышать разговоры Дурылина с протоиереем Иосифом Фуделем. А беседовали они о жизни Церкви, о её путях в тревожные для России времена первого десятилетия XX века, о Константине Леонтьеве[73] — старшем друге отца Иосифа.
Сергей Фудель, часто бывавший у Сергея Николаевича в его маленькой комнате в Обыденском переулке, вспоминает, что тот жил как монах, «это было вольное монашество в миру, с оставлением в келье всего великого, хотя бы и тёмного волнения мира»[74]. Запомнились Фуделю тишина в комнате и обилие книг, которые были всюду: на полках, на столе, на стуле, на полу. А в письмах сыну в 1951 году признается: «Мы вместе с ним прошли какой-то большой светлый путь», «Без него не было бы и нас»[75].
Дружба юношей, заложенная Сергеем Николаевичем, не ослабевала с годами. (Связи оставались крепкими. Николай Сергеевич Чернышёв первым браком был женат на сестре Сергея Иосифовича Фуделя Лидии Иосифовне. После её смерти в 1932 году отец Сергий Сидоров в 1935 году венчал Николая Сергеевича с Елизаветой Александровной Самариной (1905–1985), сестрой Юры[76] и дочерью Веры Саввишны Мамонтовой («Девочки с персиками» В. Серова) и Александра Дмитриевича Самарина — видного государственного и общественного деятеля. Николай Чернышёв стал крёстным отцом дочерей священника Сергия Сидорова Веры и Татьяны. Мать братьев Чернышёвых Варвара Андреевна (урождённая Самгина; 1875–1942) — крёстная мать актёра И. В. Ильинского.)
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Сергей Дурылин: Самостояние"
Книги похожие на "Сергей Дурылин: Самостояние" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Виктория Торопова - Сергей Дурылин: Самостояние"
Отзывы читателей о книге "Сергей Дурылин: Самостояние", комментарии и мнения людей о произведении.