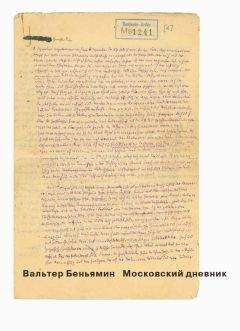Виктория Торопова - Сергей Дурылин: Самостояние

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Сергей Дурылин: Самостояние"
Описание и краткое содержание "Сергей Дурылин: Самостояние" читать бесплатно онлайн.
Перед читателями — первая биография крупного учёного — литературоведа, театроведа и историка театра, этнографа и археолога, поэта и прозаика, религиозного мыслителя, автора бесценной биографии художника М. В. Нестерова в ЖЗЛ, интереснейших исследований о Гоголе, Лермонтове, Пушкине, А. Островском, Ермоловой, Гёте, книги мемуаров «В своём углу» (называем только часть опубликованных работ).
Яркий представитель Серебряного века русской культуры, он до недавнего времени оставался в тени известных его современников, хотя был в гуще интеллектуальной жизни века революционных потрясений и войн, которые отразились и на его судьбе. Проза и поэзия Дурылина, некоторые научные труды много десятилетий пролежали в архиве и только в наши дни приходят к читателю. В своём загородном доме в Болшеве (сейчас здесь находится мемориальный музей) Сергий Дурылин духовно окормлял многих приезжавших к нему выдающихся деятелей культуры уже советского времени.
Автор книги В. Н. Торопова, лауреат литературной премии имени С. Н. Дурылина, дружила с Ириной Алексеевной Комиссаровой-Дурылиной — духовной дочерью и гражданской женой Дурылина, которую тот называл своим «ангелом-хранителем». Рассказы Ирины Алексеевны, её записки составили бесценный материал, который тоже, наряду с архивными документами, помог автору в создании жизнеописания этого незаурядного человека.
знак информационной продукции 16 +
«Свой угол» предназначался лишь для себя, не для печати. Отсюда его исповедальность и отсутствие самоцензуры. Одиннадцатую тетрадь предваряет ремарка: «Не предназначается ни для одного читателя, кроме автора. Никогда никому не читано, не было читано и не будет читано. Всё равно, что не написано, всё равно, что в голове автора». И всё же через несколько страниц Дурылин делает оговорку: «..всё-таки хотелось бы, чтобы это прочитали Ирина [Комиссарова], Мих. Вас. [Нестеров], Коля [Чернышёв], Елена Вас. [Гениева], Серёжа Фудель». Вот пять человек, самых близких, которые всё поймут и всё простят. И один читатель уже есть. Все тетрадки «Своего угла» Сергей Николаевич отправляет из Томска Елене Васильевне Гениевой. Она их первый читатель и первый критик. Она же хранитель его архива в период томской ссылки. По его просьбе Елена Васильевна собрала у себя его библиотеку, рукописи и архивные материалы, часть вещей и мебели. Всё это было из-за его кочевой жизни разбросано по разным домам друзей и родственников. Даже в 1933 году книги его всё ещё разбросаны по трём городам и, по крайней мере, по десяти местам. Но всё цело, и он помнит, у кого что хранится. Теперь она его главный душеприказчик. К ней в архив он отправляет с оказией всё, что выходит из-под пера. И ждёт её всегда умных, глубоких и нелицеприятных отзывов. Рассказ «Николин труд» она подвергла критике. А «В своём углу» оценила очень высоко. «…Я не ожидала такой напряжённости боли, одиночества и обнажённости тончайших слоёв души. <…> После этого чтения слишком думается. <…> Вы не сын Василия Васильевича. У Вас совсем нет вывороченности всего наружу, Вы по-другому интимны. <…> „7 пятниц на неделе“ Вас[илия] Вас-ча для Вас не нормальное явление, а „чертогон“, который вообще не входит в Вашу обычную <…> очень тонко интеллектуальную жизнь»[359]. Дурылин благодарен ей за понимание: «Об „Углах“ моих Вы пишете так, как никто бы не сказал о них. Вы поняли в них самое главное, — и ради него простите всё боковое»[360].
В Томске Дурылин часто вспоминает Оптину пустынь, старцев. Щемящей грустью, душевной болью пронизаны его записи:
«3 июля. День иноческих именин старца іеросхимонаха Анатолия (мирские именины были 30 августа — Александра Невского). Восемь лет нет его на земле. И как многого „нет“ вмещается в это одно „нет“: нет уж и его монастыря, нет и его могилки, нет и возможности упасть на неё и плакать. <…> Нет и многих, многих из тех, кого он любил, благословлял, направлял. Нет, быть может, уж и того народа, который шёл к нему и к тем, кто на том же месте был прежде него. Сколько „нет“ — в одном „нет“!! А для меня, лично для меня — какая цепь „нет“, тяжких, давящих меня „нет“ в одном только, в простом „нет“: восемь лет нет на земле отца Анатолия. И какое, тем не менее, ЕСТЬ, великое ЕСТЬ сияет из всех этих „нет“, личных моих и не-личных!»[361]
«Отец Феодот, уставщик Оптиной пустыни (жив ли он?), был умный и строгий монах. В 1917 и 18-м гг. я много беседовал с ним. В его келье было чисто, до тонкости чисто, прибрано, светло, — но изгнан „уют“, была келья, а не комната. <…> Разговор строгий, без шуток, без „быта“, но умный, без „параграфов“, без общедоступных поучений. <…> Он был создание Оптинской культуры. Умные, голубые, крупные глаза — с грустью, с облачком, а не с пыльцой. Говорили об Апокалипсисе»[362].
«Скончался последний оптинский старец отец Нектарий. Все ушли: Великим постом 1920 года — отец Феодосий; в 1922 году 30 июля — отец Анатолий, теперь — о. Нектарий. <…> [Он] был „собеседник ангелов“, — явно, несомненно был: тишина мудрости, радость света, чистота глубины, исходившие от него, приметные даже чуть внимательному взору и слуху, свидетельствовали о том. Но он был и „собеседником человеков“ — всех человеков, без малейшего исключения, — от великого оптинского старца — содруга, собрата, сомолитвенника (отец Анатолий), до коммуниста-красноармейца, изнемогающего в горе, от Чулкова и С. Мансурова — до калужской бабы, от художника Льва Бруни и поэтессы Надежды Павлович[363] — до козельского купца, до юродивого Гаврюши. Собеседник человеков, ведатель человеческого, божеского и звериного в человеке. И всё ведал. — всё преобратил в свет тихий. Весь был в косых лучах света невечернего. Последняя беседа моя с ним (5 нед. поста 1921 г.) была в его келье, в приёмной в скиту, под садящееся солнце, под тихий звон к вечерне»[364].
В 2000 году старцы Анатолий, Нектарий, Алексий Мечёв причислены к лику святых.
Одиннадцатую тетрадь «Своего угла» Дурылин начинает с записи своих впечатлений от «Дневника Блока. 1911–1913», только что изданного (1928). Дневник очень взволновал его. И не только потому, что нахлынули воспоминания о знакомом и знакомых, и не только потому, что это «страшная книга» и Блок предстает в ней как мученик, и жалко его. Но и потому, что и у него, как и у Блока, происходит «подмен темы» — вот их трагедия. Блок вместо «истинной темы — РОЗА и КРЕСТ» вынужден взять подменную: «судьба человеческая, неудачника». Для Дурылина закрыта его основная тема — религиозная. Он согласен с Блоком, что «от Феодосия Печерского до Толстого и Достоевского главная тема русской литературы — религиозная»[365]. И понимает, что теперь его художественные произведения будут лежать под спудом. В 1929 году написал стихотворение, которое начинается словами:
Нет, мысль осталась для молчанья,
Для слёз, для бреда и для сна…
М. В. Нестеров, рекомендуя Дурылина Анне Петровне Остроумовой-Лебедевой в 1926 году, писал ей: «Сергея Николаевича я знаю давно и очень люблю за прекрасное, верное сердце, за его талантливость. Конечно, он один из выдающихся людей теперешнего безлюдья. К сожалению, в наши дни его труды обречены надолго быть под спудом. Он как писатель обречён на безмолвие. Быть может, пройдёт много лет, когда он будет печататься. А между тем многое из написанного им — прекрасно, оригинально, глубоко по чувству и совершенно по форме. С. Н. — прирождённый лирик с умом и чутким сердцем. Им хорошо усвоено всё лучшее, что дала старая школа наших художников слова; а всё им пережитое так богато, так много дало ему материала. Темы его охватывают огромный духовный мир». К этой характеристике можно добавить строчки из письма Нестерова Дурылину: «Я люблю Ваши письма: в них кроме их стиля, всегда изящного, литературно живого, я вижу Ваше лицо. Они ярко, полно отражают Вашу прекрасную душу, нежную, чувствительную, любящую, верную во всех случаях жизни»[366].
В связи с письмом Николая Каллиниковича Гудзия[367], высоко оценившего работу «Из семейной хроники Гоголя», Дурылин с горечью записал «В своём углу»: «Вот какие книги — не хуже „Гоголя“ — я мог бы немедленно издать: 1) „Лермонтов“, 2) „Лесков“, 3) „Три очерка о Достоевском“, 4) „Художники живого слова“ [Гоголь, И. Горбунов, Садовские], 5) „Константин Леонтьев“, 6) „Из эпохи русского символизма“, 7) „Воспоминания“ (Толстой, Вас. Вас. [Розанов], Артём, Кожевников, о. И[осиф Фудель] и т. д., 8) „Нестеров“ + два-три тома рассказов + томик стихов. Это могло бы быть предметом новогодних мечтаний, — вот потому-то я и вспоминаю всё это в последние часы старого года. Отмечтал я …»[368] В письме поэтессе В. К. Звягинцевой осенью 1928 года Дурылин сетовал на подспудность своих трудов: «Я — всё „в стол“, а то, что печатается, это 1/100 меня…»[369] Интересны рассуждения Дурылина о явлении «подспудности» писателей: почему с двадцатых годов XIX века у общества «уши заложило» на Тютчева, а в 90-е годы «отложило»; на Лескова в 60–70-е годы «уши заложило», а на Шекспира всей Европе «уши заложило» чуть не на 200 лет[370].
В Томске «в стол» легли шесть очередных тетрадей «В своём углу», хроника «Колокола», неоконченная повесть «Чертог памяти моей. Записки Ельчанинова», книга «Художники живого слова», статьи «Монастырь старца Зосимы», «Художники современной детской книги» и другие работы.
Нестеров, читавший почти все художественные произведения Дурылина, уговаривал его больше писать свою прозу: «Статьи Ваши и другие напишут, а это только Вы». То же говорили ему В. В. Розанов, Вячеслав Иванов. Он и сам понимает, что годы томской ссылки, «годы полного удаления, умственного одиночества, почти молчания даны, — последняя отсрочка! — на то, чтобы делать то, что можно здесь делать и что мне никогда не удавалось делать в Москве — писать»[371]. Но болезни оставляют мало сил. Он просит Е. В. Гениеву помолиться о нём молитвой Гоголя, которою Николай Васильевич просил молиться о нём П. А. Плетнёва: «Боже, просвети его и научи тому, что ему нужно на пути его. Дай ему выполнить то именно назначение, для которого он создан Тобою же и дал Ты же орудия, способности и силы… Если ж он отшатнётся от своего назначения, то пожалей его бедную душу и снеси его до срока с лица земли»[372].
Елена Васильевна выполняет многочисленные поручения Дурылина: присылает ему книги по списку, ходит в библиотеку и делает выписки из статей; снимает копии с писем К. Леонтьева и Гоголя, передаёт Н. И. Тютчеву для выставки рисунок Е. С. Селивачевой «Фет читает „Фауста“» из его архива; разносит по библиотекам книги, которые остались за ним; тормошит С. М. Соловьёва, чтобы продлил во Всероссийском союзе писателей его членский билет — единственный документ, подтверждающий его социальный статус; хлопочет, чтобы привезли от Г. В. Постникова мамину божницу, иконы и книги — «это всё, что осталось для меня от мамы, которую я любил беспредельно»… и т. п. Она составляет каталог его книг, делает опись рукописей. Для объяснения стихотворений Тютчева «Безумие» и «Фету» Дурылин заказывает Гениевой раздобыть через её мужа-гидролога сведения об искателях воды (лозоходцах) в Алжире 30-х годов XIX столетия. Кроме Гениевой выписки для его работ делают по его просьбам К. В. Пигарёв, А. А. Сабуров, К. Н. Зимина (Капу), Маша Нерсесова, М. А. Моисеева — племянница…
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Сергей Дурылин: Самостояние"
Книги похожие на "Сергей Дурылин: Самостояние" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Виктория Торопова - Сергей Дурылин: Самостояние"
Отзывы читателей о книге "Сергей Дурылин: Самостояние", комментарии и мнения людей о произведении.