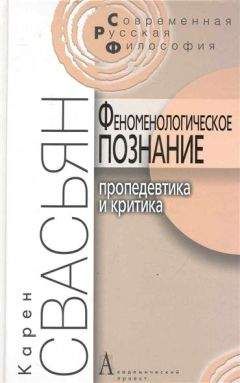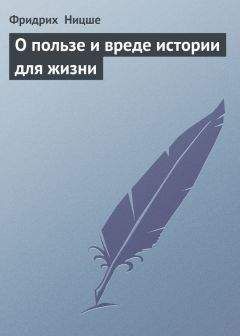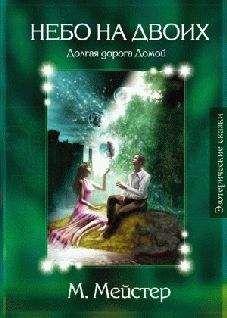Карен Свасьян - Растождествления

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Растождествления"
Описание и краткое содержание "Растождествления" читать бесплатно онлайн.
Растождествления — тяжелая работа сознания, отдирающего от себя все, что к нему прилипло; вахта негативного среди праздника простодушия и поддакивания… диссонанс непрерывных мироначал, вносящих в жизнь асимметрию человеческого и делающих жизнь больше и иначе, чем она есть, ибо жить (в первоначальном, недифференцированном, биометрическом смысле слова) и значит: постоянно отождествляться с общими дискурсами и сигнификатами времени, даже и тогда (в особенности тогда), когда дискурсы эти по–ученому усваиваются, а то и умножаются; отождествления начинаются с началом жизни и постепенно устраняются после перехода в смерть; неважно, с чем, с какой "символической формой" при этом отождествляешься, "доброй" или "злой", важно, что не отличаешься при этом от автомата, выбрасывающего нужный — "добрый" пли "злой" — продукт при нажатии нужной кнопки; растождествления — дезинфекция, дезинсекция, дезактивация сознания, запрограммированного автоматизмами, все равно какими: советскими или…
Штирнер — вирус философских программ: философ, уничтожающий философию, едва прикоснувшись к ней мыслью, причем мыслью, провоцируемой не эпатажем или парадоксами, а единственно желанием быть домысленной до конца. Если causa sui и принцип всех принципов статуируется не в бытии, а в сознании, значит начало философии, на какую бы объективность она ни рассчитывала, субъективно, и значит, субъективность есть начало философии. Hic salta! Ибо субъективность требует субъекта. По аналогии: схоластическая философия различала quidditas (чтойность) и дополняющую её haecceitas (этость): скажем, человечность, как таковую (humanitas), и человечность Сократа (Socratitas). Человек Сократ выступал дифференцированным (вот этим вот, hic) носителем человечности; ответ на вопрос о её общем носителе, так сказать, субъекте самого бытия оказывался соразмерным эпохе соборов и знамений: Бог. Понятно, что и новой философии пришлось на свой лад решать означенный вопрос — с оглядкой на схоластику и при её умолчании. Но если схоластическое решение лежало в Боге, а Бог был бытием, то новая философия, отталкивающаяся не от бытия, а от сознания, встала перед проблемой абсолютного субъекта сознания. Чтобы избежать разъедающего скепсиса Юма и растворения философии в релятивизме, Кант строго различил эмпирическую и трансцендентальную субъективность, передав последней права Бога теизма — правда, в сильно урезанной и теологически ненормативной редакции организатора мира математического естествознания. Субъектом–носителем сознания (сознания вообще) стал Трансцендентальный Субъект: в более утонченной, функциональной, версии, «чистая форма сознаваемости» (Риккерт), на фоне которой эмпирическому субъекту не оставалось ничего иного, как быть местом философских отходов, как–то: биологизма, феноменализма, психологизма и т. п. Парадокс приковывал внимание с очевидностью подожженного бикфордова шнура: если старое бытие реагировало на вопрос«что» и логически обобщалось в «чтойности» Бога, то очевидно, что сознание, субъект, Я могло откликаться исключительно на вопрос «кто», причем не иначе, как во множественном числе и персонально. Подвох лежал, однако, не столько в многообразии эмпирических субъектов (других сознаний), сколько в «кто» самого Трансцендентального Субъекта, перенявшего полномочия Божества и вынужденного делать ставку уже не на веру и мораль, а на логику и научный эксперимент. Оставалось отважиться на «абсурдный»вопрос: если Я эмпирического субъекта Фихте, вскоре после его рождения в 1762 году и до его смерти 29 января 1814 года, откликалось на «кто» Иоганна Готтлиба Фихте, то на «кого», собственно, могло бы откликнуться абсолютное Я философа Я Фихте? Разве не очевидно, что этому Я, не будь оно воплощено, выпала бы участь быть только–мыслью, только–понятием, nothing but a word несокрушимого англоязычного номинализма? Теологи лишь отсрочивали развязку, обходя молчанием вопрос: что делает Бог в эпоху научного материализма и университетского атеизма, чтобы не быть уволенным за просроченный платонизм? В ином ракурсе: если понятие Я воплощено, если оно не теоретично, а фактично, то В КОМ, ЧЬЕ, КТО? Мог бы философ Фихте сказать о своем «Наукоучении», как художник Флобер о своей героине: «Наукоучение — это Я»? Буквально: «Я Науко–учения — это мое, Фихтево, Я»? Христианской аудитории впору было бы вспомнить в этой связи христианского Бога, ставшего однажды плотью в попрание всех запретов и аксиом языческого коллегиума. Но Бог христианства, как известно, не снисходил сам до философствования, препоручив эту заботу как раз участникам названного коллегиума, которые с тех пор и присно дезинфицируют её в надежном дохристианском plusquamperfectum'e… Не секрет, что теология всегда спотыкалась о божественные парадоксы; её и не было бы в помине, как теологии, не научись она справляться с ними апелляцией к «безумию креста» или к заклинательным формулам типа «верую, ибо абсурдно». С философией, конечно же, дело обстояло иначе. За абсолютной невозможностью приспособить эти заклинания и к философии, где неприлично же было бы сохранять лицо, апеллируя к «безумию интеллекта», философам, поставленным перед проблемой эгоизма в философии, не оставалось иного выбора, чем между сведением своего Я к пучку представлений и мужеством не потерять самих себя в собственных мыслях[234].
В «Единственном» Штирнера западная философия, только что отпраздновавшая у Гегеля свою абсолютность, попадает в ловушку hysteron proteron. Штирнер, эксгегельянец, скорее раздраженный, чем воодушевленный попыткой Фейербаха низложить надмирную метафизику Гегеля средствами метафизически же вскормленного гуманизма, домысливает её эгоистически, именно: не останавливаясь, подобно Фейербаху, на абстрактно–родовой «сущности человека», в обратной перспективе вывернутого наизнанку, так сказать антропологизированного гегельянства, а доводя её до конца, до дальше некуда, до конкретного имярека, ну да: до Иоганна Каспара Шмидта, он же Макс Штирнер. Что случившееся легче всего уместилось бы в рубрике от великого до смешного, в этом согласно сходились «коллеги» как слева, так и справа; гораздо труднее было предположить обратный ход в один шаг, именно: от смешного до великого. Гегель, как известно, возвел философию в ранг абсолютного, причем не в рамках метафизического догматизма, а с позиций своеобразно осмысленного эволюционизма; если мир развивается и совершенствуется от низшего к высшему, то высшее мира есть сознание, соответственно, высшее сознания есть дух, а высшее духа — сознающая его философия. Таким образом, не философия существует, чтобы объяснять мир, а мир существует, чтобы становиться философией. Штирнеровский tour de force начинается с вопроса: ЧЬЕЙ философией? Ответ альтернативен: либо (в данном случае) гегелевской, либо — и уже принципиально — ничьей. Но если гегелевской, значит ли это, что Гегель сам и есть Мировой Дух? Допустив, что Творцу мира захотелось бы однажды выйти из–под опеки философов, тем более теологов, и — зафилософствовать самому… Увидел же однажды автор «Феноменологии духа» Мирового Духа на коне; отчего бы и не на ректорском стуле? Совсем в тональности последних туринских писем Ницше, но в полном здравии и без малейшего намека на срыв: «в конце концов меня в гораздо большей степени устраивало бы быть славным берлинским профессором, нежели Богом; но я не осмелился зайти в своем личном эгоизме так далеко, чтобы ради него поступиться сотворением мира». Мог ли сам Гегель не знать, чьей философией, кем собственно становится в нем мир? Предположить обратное, значило бы бросить на Дух, мыслящий себя, как мир, тень подозрения в утрате им идентичности… Против колкой и пьянящей необычности этих вопросов предостерегает школьная логика, дозволяющая заключать от общего к частному, но не от частного к общему (ab universali ad particulare valet, a particulari ad universale non valet consequentia), в рассматриваемом случае: от Мирового Духа к философу Гегелю, но не наоборот. Единственно допу–стимым ответом на вопрос: чья философия? оказывается тогда: ничья. Ничья философия, ничье сознание, ничей дух[235]: на это ничто и ставит апостат гегельянства Штирнер, а вслед за ним и экспериментатор нигилизма Ницше — оба с провалом в молчание и безумие. О Ницше, уже больном, говорит однажды Штейнер, что ответ на множество своих вопросов, оставленных им открытыми, Ницше нашел бы в «Философии свободы»[236]; выше было предположено, что «Эгоизм в философии» написал бы Штирнер, будь он в состоянии писать, вообще жить после «Единственного и его достояния»[237]. (Допустив, что жить и значило бы в этом случае: жить как «Единственный».) Штирнер: «Идеал „человек" реализован, когда христианское воззрение переходит в формулу: „Я, вот этот единственный, имярек, и есть человек". Понятийный вопрос: „что есть человек?" превратился тем самым в личный: „кто есть человек?" В случае „что" искали понятие, чтобы реализовать его; с вопросом „кто" в спрашивающем налицо уже не вопрос вообще, а ответ: вопрос сам отвечает на себя»[238]. Интересно в этом отрывке между прочим и то, что он поддается не только философскому, но и христианскому прочтению, именно, как своего рода поправка к Пилату, к вопросу Пилата: «Что есть истина?» Христианской философии (по сути, всё еще старому платоновско–аристотелевскому симпосиону, и даже не столько в греческом, сколько арабском варианте) пришлось прождать свыше тысячи лет, пока на неё сошла, наконец, благодать понимания: пилатовский вопрос оставлен не отвеченным не потому, что спрашиваемому нечего на него ответить (Логос, зажатый в угол логиком!), а потому, что он поставлен неверно, неадекватно, мимо. Ответ на вопрос: «Что есть истина?» — асимметрично и имманентно — дан до самого вопроса: Иоан. 14,6: «Яесмь […] истина». Пилату, а с ним и всему христианскому миру, понадобилось (понадобится!) пройти школу «безбожного» Штирнера, чтобы понять, что, стоя лицом к лицу с ВОПЛОЩЕННОЙ истиной, не спрашивают: «Что есть истина?», а спрашивают единственно: «КТО есть истина?», и спрашивают силою уже однажды данного и явленного ответа: «Я есмь
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Растождествления"
Книги похожие на "Растождествления" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Карен Свасьян - Растождествления"
Отзывы читателей о книге "Растождествления", комментарии и мнения людей о произведении.