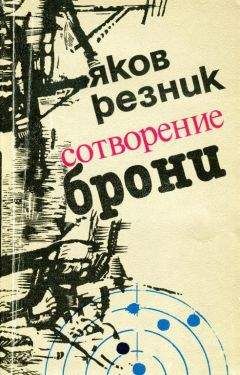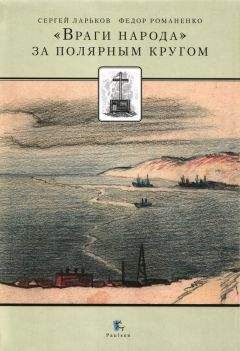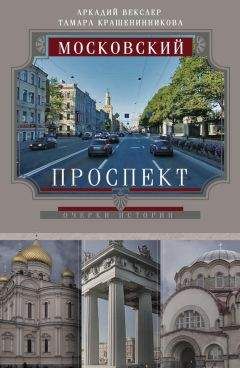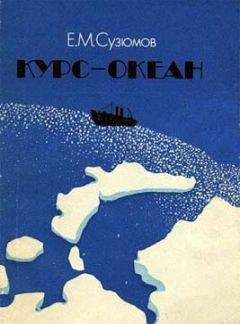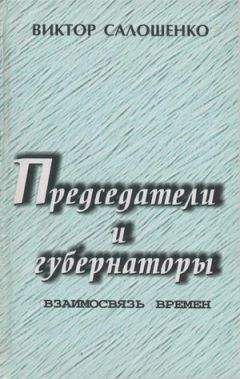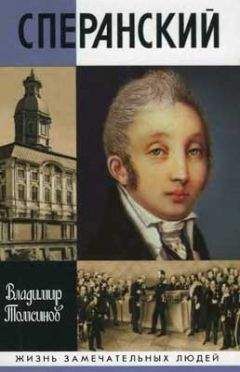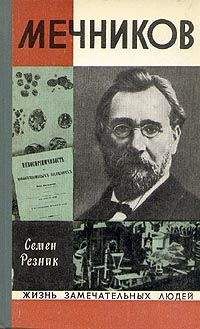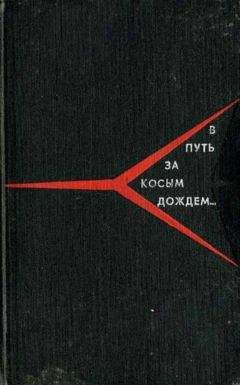Семен Резник - Против течения. Академик Ухтомский и его биограф

Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.
Описание книги "Против течения. Академик Ухтомский и его биограф"
Описание и краткое содержание "Против течения. Академик Ухтомский и его биограф" читать бесплатно онлайн.
Документальная сага охватывает более ста лет духовной жизни России под железной пятой царского, а затем советского режимов. В центре повествования – судьба великого физиолога, философа и религиозного мыслителя академика А. А. Ухтомского (1875–1942), а также его ученика и первого биографа В. Л. Меркулова (1908–1980) – историка науки, многолетнего узника ГУЛАГа. Читатели познакомятся с кругом ученых, писателей, религиозных и политических деятелей, чьи судьбы прямо или косвенно переплетаются с главными персонажами. В их числе брат А. А. Ухтомского епископ Андрей, расстрелянный в 1937 году; учитель А. А. Ухтомского Н. Е. Введенский; его ученики и ученицы (Н. В. Голиков, А. И. Бронштейн-Шур, И. И. Каплан). Даны литературные портреты академика И. П. Павлова, его ученицы и возлюбленной М. К. Петровой, ведущих «павловцев» (Л. А. Орбели, К. М. Быкова, А. Д. Сперанского, П. К. Анохина). Представлены солагерники В. Л. Меркулова: поэт Осип Мандельштам, литературовед В. Ф. Переверзев, академик Е. М. Крепс. В числе действующих лиц Максим Горький и его сын Максим Пешков, «меньшевиствующий идеалист» М. А. Деборин и сын Чан Кайши Цзян Цзинго, учитель И. П. Павлова И. Ф. Цион и швейцарский ученый XVIII века Альбрехт Галлер. Читателям предстоит побывать на заседаниях Поместного Собора РПЦ в судьбоносном 1917 году и на Павловской сессии двух академий 1950 года, пережить – вместе с Ухтомским – два ареста и блокаду Ленинграда (которую он сам не пережил); узнать – вместе с Меркуловым – почем фунт лиха в сталинских лагерях и как живется-можется бывшему зэку, «пораженному в правах»; каково прорываться сквозь колючую проволоку цензуры и сквозь лицемерие титулованных чиновников от науки и литературы.
В книге широко используются неизвестные и малоизвестные материалы, в том числе переписка автора с В. Л. Меркуловым, считавшаяся утерянной.
Он жадно впитывал рассказы случайных попутчиков о своей жизни, любил слушать народные сказания и предания, цепко запоминал подробности. Он вслушивался в особенности речи жителей разных мест; характерные для них словечки, выражения, интонации навсегда западали ему в память. Уже в пожилом возрасте, никуда не выезжая из Ленинграда, он, по двум-трем словам собеседника безошибочно угадывал, из какой тот местности и из какого слоя общества. Его особым расположением пользовались земляки-волжане, волгари, как он их называл. До конца жизни он радовался встрече с каждым из них, никогда их не забывал, поддерживал связи со всеми, с кем было возможно. И мысленно снова и снова отправлялся в родные места, находя даже много преимуществ в том, чтобы присутствовать там только виртуально, «не таская за собою свою тяжелую и массивную персону».
3.Восьми лет он был отдан в Рыбинскую гимназию и до конца жизни с теплотой вспоминал учителей Василия Николаевича и Василия Матвеевича – они казались ему очень умными, и законоучителя отца Николая – он был добрым. В гимназии он проучился пять лет, вспоминал их как очень счастливые годы. Он рассказывал о них со вкусом, со многими живыми подробностями, словно речь шла о случившемся вчера, а не 30–40 лет назад. Когда друг детства А. А. Золотарев спросил его, откуда это чудо его памяти, он ответил:
– Памяти дает силу и крепость любовь. На любовь навертываются все впечатления, как на веретено. Не будет любви, не будет и памяти.
Когда ему исполнилось 13 лет, он был определен в кадетский корпус им. графа Аракчеева в Нижнем Новгороде. Такова была семейная традиция. Этот кадетский корпус окончил его отец, сюда был отправлен старший брат Александр, и для родителей было вполне естественно сюда же определить Алексея.
Отправки в корпус он ждал с мальчишеским нетерпением и, проходя по улицам Рыбинска в надоевшей гимназической шинели, представлял себе, как через год, на каникулах, будет здесь щеголять в молодцеватой форме кадета. Но когда, оказавшись, наконец, в корпусе, среди чужих незнакомых подростков, спешивших на построение, и суровых воспитателей-офицеров, он увидел в окно согбенную спину удаляющейся тети Анны, сердце его захолонуло от боли и одиночества. Подросток с нежной, ранимой душой попал в чуждую среду, где царили порядки казармы, за малейшую провинность сажали в карцер, а то угощали и розгой.
Казенная атмосфера закрытого военного заведения была для него удушающей. В свободные минуты, вместе с приехавшим с ним из Рыбинска гимназистом Андреевым и другими новичками, он любил убегать в сад, но это строго запрещалось, и горе было тем, кто попадался на глаза грозному дядьке-надзирателю. На втором году пребывания Алексея в Корпусе в нем вспыхнула эпидемия дифтерита. Беспощадная болезнь унесла восьмерых кадетов, в их числе близких друзей Алексея. Сам он уцелел, но выздоравливал долго, пропустил много занятий и уехал на каникулы с двумя переэкзаменовками.
Сиро и одиноко было ему в кадетском корпусе! Только переписка с тетей и ее редкие приезды помогали поддерживать душевное равновесие от каникул до каникул, на которые он, конечно, уезжал в родные места.
Здесь ему было хорошо! Хорошо было бродить по лесам, купаться в речке, в горячую пору сенокоса подыматься затемно, чтобы, встроившись с косой в общий ряд с мужиками, махать ею от зари до зари, а потом, испытывая сладкую ломоту в перетруженном теле, блаженно валяться на сеновале, прислушиваясь к тому, как затихают внешние звуки и становится все слышнее тихий рокот реки – великой вековой труженицы. Так он мог долго лежать без сна и размышлять о том, как приходили и отходили в лучший мир поколения предков, а река все струилась и струилась, перекатывая по дну каменья, подтачивая исподволь берега, намывая песчаные отмели, делая свою неустанную работу и не замечая того, что происходит на ее берегах. В бессонной истоме его охватывало особое чувство слияния с природой с вековечным укладом жизни, с прошлым и будущим.
Обучение в Кадетском корпусе не ограничивалось муштрой и военными дисциплинами. Кадеты изучали иностранные языки, математику, историю, естественные науки. По утверждению близкого друга Ухтомского А. А. Золотарева, учеба в Кадетском корпусе оказала большое влияние на Алексея Алексеевича. Он «очень высоко ставил это свое военное образование и всегда с горячей благодарностью говорил о своих корпусных преподавателях и воспитателях». А брат А. А. Золотарева Сергей, литератор и педагог, много работавший в военных учебных заведениях, «особенно подчеркивал в манере мышления, разговора и письменного изложения своих мыслей у Ал. Ал. именно его военную школу»[61].
Математику в Корпусе преподавал уже упоминавшийся Иван Петрович Долбня, человек чуткий и всесторонне образованный, будущий профессор, а потом и ректор Горного института в Петербурге.
Ухтомский вспоминал добром и других учителей, в особенности А. И. Кильчевского. Это был «милый и мудрый старик, воспитывавший нас и нашу мысль на Аристотеле. Уроки его были совсем особенные: не было заданий и формальных опросов. Он приходил в зимние утренние часы и, в полутемном классе, начинал, как он сам выражался, «бредить”, поднимая вопросы логики, эстетики и литературы»[62].
Учеба давалась Алексею легко, оставалось время и на самообразование. Книги для неурочного чтения он подбирал очень тщательно, в этом ему помогал чуткий наставник И. П. Долбня. В. Л. Меркулов, просматривая рабочие тетради кадета Ухтомского, обнаружил в них выписки из сочинений Аристотеля, Декарта, Спинозы, Канта, Гегеля, Фейербаха. Выписки сопровождались собственными комментариями, из них видно, как его мучили «противоречия философских систем, стремящихся объяснить законы бытия»[63].
Каждая система объясняла их по-своему, значит, неверно или, как минимум, односторонне. С юношеским максимализмом он ставит перед собой задачу – найти эти законы!
Чем ближе подходили выпускные экзамены, тем становилось яснее: для военного поприща он не создан. Окончив корпус в 1894 году, Алексей категорически отказывается поступать в Академию генерального штаба, куда его пытался определить отец, но твердо решает учиться дальше.
Его старший брат Александр первым порвал с семейной традицией. Он был почти на три года старше Алексея и Кадетский корпус окончил на три года раньше. А затем, вопреки протестам родичей, поступил в Московскую духовную академию, располагавшуюся в Троице-Сергиевом посаде. На это решение повлияла случайная встреча братьев на волжском пароходе, когда они на очередные каникулы возвращались из Нижнего Новгорода в Рыбинск, с широко известным проповедником Иоанном Кронштадтским. Знаю об этом из письма В. Л. Меркулова, который попутно высказал несколько саркастических замечаний о знаменитом священнослужителе, имевшем гипнотическое влияние на двух последних российских самодержцев.
Но если Александр сразу же решил последовать совету отца Иоанна, то Алексею такое решение далось нелегко. Важную роль сыграло поощрение Ивана Петровича Долбни. Он уверил юношу, что Московская духовная академия – это не отгороженная от мира обитель, а нормальное учебное заведение, где можно получить отменное философское, историческое и, конечно, религиозное образование. Из ее стен вышло немало крупных профессоров и общественных деятелей. Так, известный поэт и религиозный философ B. C. Соловьев после университета слушал лекции в Духовной академии. В. Л. Меркулов записал слова Ухтомского:
«Еще будучи в корпусе, я был склонен серьезно изучать теорию познания, психологию, историю и языки. В московской Духовной академии преподавал в те годы знаменитый историк России Василий Осипович Ключевский и другие видные профессора Московского университета. В академии было хорошо поставлено преподавание философии, психологии и древних языков. И вот это-то и определило мое решение поступить учиться в академию вопреки воле моих родителей»[64].
Можно, однако, не сомневаться, что главной побудительной причинной была все-таки религиозность юноши, но этого Ухтомский Меркулову не сказал, или Меркулов этого не записал, или записал, но из его книги это место было вымарано: передовому советскому ученому полагалось быть безбожником (желательно, воинствующим!).
В Духовной академии Ухтомский, по его собственным словам, смог «вникнуть ближе и конкретнее в идеи чистого христианства и в исторические судьбы этих идей, а о важности такого вникания для современного образованного человека нечего и говорить»[65].
А. А. Золотарев свидетельствовал, что Ухтомский «считал эти годы, проведенные им у Троицы, счастливейшими и плодотворнейшими для своего духовного возрастания».
По свидетельству того же Золотарева, возвращаясь на каникулы в Рыбинск, Ухтомский все активнее участвует в местной церковной жизни, причем, «начинает отчетливо проводить свою линию по защите дедовщины».
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Против течения. Академик Ухтомский и его биограф"
Книги похожие на "Против течения. Академик Ухтомский и его биограф" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Семен Резник - Против течения. Академик Ухтомский и его биограф"
Отзывы читателей о книге "Против течения. Академик Ухтомский и его биограф", комментарии и мнения людей о произведении.