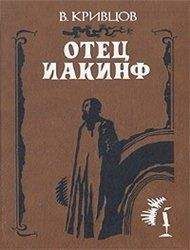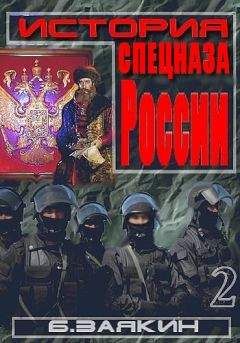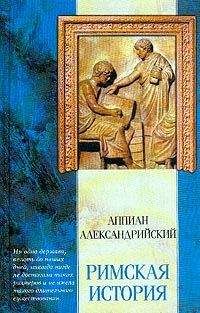Михаил Гершензон - Избранное. Молодая Россия

Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.
Описание книги "Избранное. Молодая Россия"
Описание и краткое содержание "Избранное. Молодая Россия" читать бесплатно онлайн.
Михаил Осипович Гершензон (1869–1925) – историк русской литературы и общественной мысли XIX века, философ, публицист, переводчик, редактор и издатель и, прежде всего, тонкий и яркий писатель.
В том входят книги, посвященные исследованию духовной атмосферы и развития общественной мысли в России (преимущественно 30-40-х годов XIX в.) методом воссоздания индивидуальных биографий ряда деятелей, наложивших печать своей личности на жизнь русского общества последекабрьского периода, а также и тех людей, которые не выдерживали «тяжести эпохи» и резко меняли предназначенные им пути. В основе исследований Гершензона богатый архивный (особенно эпистолярный) материал. В томе публикуются три книги: «История молодой России», «Декабрист Кривцов и его братья» и «Жизнь В. С. Печерина». Перед читателем проходят декабристы М. Ф. Орлов и С. И. Кривцов, духовные вожди русской молодежи Н. В. Станкевич, Т. Н. Грановский, Н. П. Огарев и др., а также не вынесший в своих мечтах о «лучшем мире» разлада с российской действительностью молодой профессор Московского университета В. С. Печерин, эмигрант, принявший монашеский постриг и сан католического священника и закончивший свой жизненный путь в Ирландии, высоко оценившей его полный самоотверженного милосердия подвиг.
Это традиционное и однородное отношение к миру, к обществу и к собственной личности достигает наибольшей своей полноты и вместе самосознания у людей Александровского времени, в том поколении, к которому принадлежали декабристы. Тип декабриста – это, прежде всего, тип человека внутренне совершенно цельного, с ясным, законченным, определенным психическим складом, – человека, которому внутри себя нечего делать и который поэтому весь обращен наружу. Осознанное мировоззрение настойчиво требовало участия в жизни, и, главным образом, разумеется, в общественной, которая так далеко отстала от него: вот почему эти люди психологически должны были стать политиками. Им лично, каждому в отдельности, эта психическая насыщенность сообщала удивительный нравственный закал, и потому, когда жизнь поставила на пробу их личное мужество, они во тьме рудников засияли, как драгоценные каменья. Может быть, ни в чем так ясно не обнаруживается характер эпохи, как в раннем созревании людей того поколения: Пушкин, Чаадаев – в 16 лет зрелые люди; так всегда бывает в периоды господства законченных мировоззрений, когда юноше остается только усвоить готовые приемы и навыки мышления. Станкевич и его товарищи созревают гораздо медленнее.
Весьма вероятно, что и без того потрясения, которое произвела в русском обществе неудача декабрьского мятежа, старое Александровское мировоззрение продержалось бы недолго, но эта катастрофа должна была, разумеется, ускорить его падение. Она явилась как бы плотиною, запрудившей духовную энергию, которая рвалась наружу – перестраивать жизнь. Искусственно оторванная от всякого дела, мысль обращается теперь на самое себя. Громадную важность имел уже тот факт, что как раз лучшие представители старого психического склада – именно декабристы – были изъяты из общественной жизни: ими и в них он защищал бы свою позицию, они импонировали бы своей цельностью и гармонической красотой. Но старое общество было обезглавлено, и новое поколение выступило в жизнь без сильных руководителей и, значит, с большей свободой в выборе пути. И тут, на пороге, его подхватила волна западного движения, этот могучий ураган обновительных идей, нашедших свое высшее воплощение в философских системах Шеллинга и пр. Старое мировоззрение рухнуло – начался великий ледоход русской мысли. Начался период теоретической работы, глубоко неестественный этой своей односторонностью, но чрезвычайно плодотворный по своим результатам.
Изобразить этот ледоход – задача настоящей книги. Новое содержание общественной мысли рождалось в людях, и в людях оно должно быть изучено, во всей реальности, во всей полноте, во всей жизненной сложности личных, интимных переживаний. Моя задача состояла в том, чтобы в живой работе индивидуального сознания подслушать прозябание нового, того, что рождал век, и так как жизнь духа сложнее наших логических формул, то я старался воспроизвести каждую жизнь или каждый эпизод жизни по возможности вполне, не срезая с корней, напротив, и с теми комьями земли, которые пристали к корневым нитям. Особенный характер задачи требовал и соответственного материала, то есть такого, который позволил бы глубже заглянуть в интимную жизнь личности; поэтому большинство очерков основано на материале писем, большею частью неизданных.
Первый очерк – введение. Он должен познакомить читателя с душевным складом людей Александровского времени – декабристов. Так как истинной сферою проявления этих людей была именно жизнь, а не внутренняя работа духа, то мне хотелось перенести на эти страницы уголок жизни, где бы один из них был центральной фигурой, но где, вместе с тем, обрисовался бы целый узел жизненных отношений, так, чтобы стало видно, как чувствовали, как мыслили, как решались эти люди. Таким узлом является в моем очерке семья Раевских, такой центральной фигурой – Орлов. Для цельности и ясности людей Александровской эпохи, для их чуждости всякому внутреннему исканию, Орлов достаточно типичен; еще характернее его душевное состояние во вторую половину жизни, когда, отрезанный от всякого внешнего дела, он не знает, к чему приложить свои богатые силы, томится и медленно гаснет. А вокруг него – какая полнота типической жизни, какие фигуры, одна ярче и выразительнее другой! С одной стороны, старик Раевский, представитель того же насыщенного мировоззрения, но поколением раньше Орлова, когда оно еще само довлело себе и не стремилось никуда, ни даже обновить жизнь согласно с собою; с другой – Александр Раевский, тоже цельный, тоже не ищущий, плоть от плоти своего времени, но с лицом, искаженным гримасой, разбитое зеркало своей эпохи; наконец, женщина тех дней, Мария Волконская, вся в данном круге идей и отношений, но в нем – сама решимость, подлинная дочь своего отца.
Второй очерк – картина переходной эпохи. В лице Печерина с удивительной ясностью воплотился тот первый фазис движения, когда внутренняя задача еще не заполнила всего внимания, когда новый мир еще только суммарно – и тем лучезарнее, тем опьянительнее – представлялся уму, так называемый период «абстрактного героизма». Печерин любопытен для нас не только тем, что в его лице эта пламенная мечта о «лучшем мире» достигла своего зенита, но и тем, что в нем она поглотила всего человека и пошла переделывать жизнь. В его сверстниках она оставалась мечтою, да и скоро, как, например, в Белинском, угасла совсем.
Остальные очерки изображают самое движение 30-40-х годов с его различных сторон, каждый раз на том примере, где данная сторона процесса выступала в наиболее жизненной своей форме, как трагедия индивидуального духа.
Это движение – колыбель русского идеализма. Значение Станкевича и его сверстников – не только в том, что ими впервые на русской почве были сознательно и при свете европейской науки поставлены основные вопросы бытия и выработаны первые сознательные критерии истины и добра; сущность движения – в самом характере их душевной жизни. Они первые искали свою правду жизненно, не в спокойной работе умозрения, а в трагическом опыте личных падений и побед, и самое знание, до которого они были так жадны, воспринималось ими нравственно, со всей болью и радостью личных переживаний. В этом их главное отличие от предшествовавших им поколений, и отсюда же их новое отношение к действительности. Стоит лишь сравнить Чацкого, Онегина, Печорина с любым идеалистом 30-х годов, чтобы оценить всю важность перемены: там, где первые только холодно и высокомерно презирали окружающую среду за ее пошлость и умственное ничтожество, там Станкевич и Белинский болеют сердцем или страстно ненавидят.
Другая особенность движения заключалась в объеме выставленного им идеала. Люди 30-х годов мечтали не о частичных усовершенствованиях человека и общества, а о полном преобразовании всей жизни. Они выставили идеал жизни радостной и прекрасной, они первые вывели это солнце на горизонт нашей общественности. С тех пор оно незакатно стоит над русской интеллигенцией; от него заимствовала свой свет и тепло и получила свои краски наша художественная литература.
Этими двумя чертами умственное движение 30-40-х годов предопределило дальнейший ход развития русской мысли. Те люди не жили вовне – они только думали и чувствовали. Оранжерейное развитие их мысли не могло не отразиться на их конкретных построениях, и русское общество, впитавшее их идеологию в плоть и кровь, еще и теперь не освободилось от ее крайностей и ошибок. Но вся дальнейшая работа сознания, непрерывно продолжающаяся доныне, представляет собою развитие начал, впервые властно сказавшихся в исканиях «Молодой России».
Глава первая
М. Ф. Орлов
I
Когда в 1816 году М. Ф. Орлов окончательно вернулся в Россию, ему было всего 28 лет, но он успел уже сделать блестящую карьеру. Сын младшего брата екатерининских Орловых{2}, он воспитывался в аристократическом пансионе аббата Николя, юношей вступил в Кавалергардский полк, быстро выдвинулся в Отечественной войне и уже в 1812 году был назначен флигель-адъютантом к государю. Александр полюбил его; ему поручил он в 1814 году заключить капитуляцию Парижа, его же послал затем в Данию для заключения договора о присоединении Норвегии к Швеции, назначил его генерал-майором своей свиты и держал в большой близости к себе[1]. Дорога Орлова вела, казалось, круто вверх. У него было в избытке все, что нужно для успехов в свете: молодость, знатность, богатство, расположение царя, открытый и смелый характер, прекрасная, представительная наружность. Между тем все эти дары фортуны не пошли ему впрок и его дальнейшая жизнь сложилась, в смысле карьеры, вполне неудачно. По приезде в Петербург его звезда очень скоро идет на уклон, – и, надо заметить, это вовсе не было делом случайности, а произошло в силу естественной логики вещей.
Дело в том, что Орлов, подобно большинству будущих декабристов, вернулся из французского похода обуянный самым пламенным патриотизмом и жаждой деятельности на пользу родины. Он принадлежал, по– видимому, к числу самых нетерпеливых. Н. И. Тургенев, сблизившийся с ним за границей, характеризует его так: «Подобно всем людям с живой и пылкой душою, но без устойчивых идей, основанных на прочных знаниях, он увлекался всем, что поражало его воображение». Как раз сближение с Тургеневым в 1815 году в Нанси дало сильный толчок его либеральным стремлениям. У нас есть только очень смутные сведения об адресе к царю, который составил Орлов по своем возвращении в Россию[2]. Это была петиция об уничтожении крепостного права; кроме самого Орлова, ее подписали многие высшие сановники, в том числе Васильчиков, Воронцов и Блудов. Дальнейшая судьба этого адреса неизвестна, но для Орлова он, по-видимому, не имел никаких неприятных последствий: отношение к нему царя осталось дружественным по-прежнему. Более точные данные имеются о другой либеральной попытке Орлова, относящейся к 1817 году. Весною этого года, то есть через несколько месяцев по возвращении в Петербург[3], он был выбран в члены беспечного и веселого литературного общества «Арзамас». По заведенному обычаю всякий новоизбранный должен был произнести надгробное слово одному из членов, конечно, живому. Вместо этого Орлов выступил с серьезной речью{3}, в которой указывал, что недостойно мыслящих людей заниматься пустяками и литературными препирательствами, когда кругом так много нужного дела, и умолял своих сочленов дать деятельности общества иное, более патриотическое направление. Он предлагал с этой целью две меры: во-первых, завести журнал, «коего статьи новостью и смелостью идей пробудили бы внимание читающей России», во-вторых, предоставить каждому из живущих не в столице членов учредить в месте его пребывания филиальное общество под руководством главного, и таким образом покрыть всю Россию сетью отделений[4]. Этот широкий план не встретил достаточного сочувствия среди членов и остался втуне, но мысль о журнале получила ход и не была осуществлена только потому, что правительство отказало в разрешении. До нас дошла программа этого предполагаемого журнала. Первое место в нем должен был занимать политический отдел, который брали на себя Орлов, Н. Тургенев и Д. Северин; целью его ставилось «распространение идей свободы, приличных России в ее теперешнем положении, согласных со степенью ее образования, не разрушающих настоящего, но могущих приготовить лучшее будущее»[5]. Как известно, все первые попытки совместной деятельности у будущих декабристов носили именно такой – просветительно-реформаторский, а не революционный характер.
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Избранное. Молодая Россия"
Книги похожие на "Избранное. Молодая Россия" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Михаил Гершензон - Избранное. Молодая Россия"
Отзывы читателей о книге "Избранное. Молодая Россия", комментарии и мнения людей о произведении.