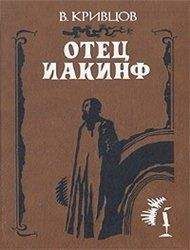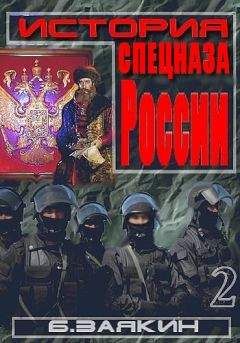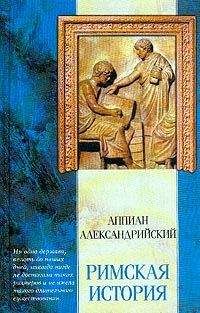Михаил Гершензон - Избранное. Молодая Россия

Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.
Описание книги "Избранное. Молодая Россия"
Описание и краткое содержание "Избранное. Молодая Россия" читать бесплатно онлайн.
Михаил Осипович Гершензон (1869–1925) – историк русской литературы и общественной мысли XIX века, философ, публицист, переводчик, редактор и издатель и, прежде всего, тонкий и яркий писатель.
В том входят книги, посвященные исследованию духовной атмосферы и развития общественной мысли в России (преимущественно 30-40-х годов XIX в.) методом воссоздания индивидуальных биографий ряда деятелей, наложивших печать своей личности на жизнь русского общества последекабрьского периода, а также и тех людей, которые не выдерживали «тяжести эпохи» и резко меняли предназначенные им пути. В основе исследований Гершензона богатый архивный (особенно эпистолярный) материал. В томе публикуются три книги: «История молодой России», «Декабрист Кривцов и его братья» и «Жизнь В. С. Печерина». Перед читателем проходят декабристы М. Ф. Орлов и С. И. Кривцов, духовные вожди русской молодежи Н. В. Станкевич, Т. Н. Грановский, Н. П. Огарев и др., а также не вынесший в своих мечтах о «лучшем мире» разлада с российской действительностью молодой профессор Московского университета В. С. Печерин, эмигрант, принявший монашеский постриг и сан католического священника и закончивший свой жизненный путь в Ирландии, высоко оценившей его полный самоотверженного милосердия подвиг.
В этом эпизоде для нас важно не то, что Станкевич не полюбил своей знакомки, – в этом человек не волен, – а то, что, ощутив приближение действительного чувства, он поспешно ретировался. Вся его хитрая расчетливость – не что иное, как средство замаскировать собственную трусость; очевидно, любовь манила его лишь в отвлечении, реальная же страсть пугает его пуще всего. Дело в том, что «мечты», как ни ясна ему их призрачность, уже успели стать той атмосферой, вне которой ему трудно дышать. Только в них он находит ничем не возмущаемую красоту и безграничный простор, действительность же давит его грубой законченностью своих форм и оскорбляет примесью прозы во всяком проявлении красоты. Поэтому, едва коснувшись жизни, он бежит от нее назад, в привольный мир неопределенных чувств, смутного волнения, мирных и красивых фантазий, где нет ни уз, связывающих навеки, ни резких очертаний. И он оправдывает это бегство сознательно: прилепиться к чему-нибудь единичному и реальному представляется ему изменой высшему назначению человека; как ни сладко, «исторгшись из скуки жизни, отдохнуть в объятиях тихого существа»{38}, он должен бежать этого счастия, чтобы не сбиться с пути. Два цветка, говорит Шиллер, манят человека: надежда и наслаждение; кто сорвал один из них, тот не получит другого{39}. А для него без надежды нет счастия, ибо надежда есть сознание своего права на счастие, своей правоты; значит, он должен навсегда отречься от наслаждения. Это сознание наполняет гордостью его сердце: он – мученик за идею, ему суждено, отказавшись от пошлого счастия толпы, всю жизнь стремиться к идеалу без надежды достигнуть его. Станкевичу, вероятно, не слишком трудно было расстаться с той девушкой, но он чувствует себя героем: «Как отрадно разбить упоительный сосуд, поднесенный любовью, и сказать: я выше толпы счастливцев, я имею право сделать упрек судьбе…». И он наивно прибавляет: «Есть прелесть в отчаянии, с которым сморишь на прелестное создание, с которым никогда, никогда не соединишься, с которым разлучила тебя твоя мысль, высокая, благородная!»{40}.
Эта искусная апология, очевидно, в принципе освящала бегство от действительности. Сейчас речь шла только о любви и личном счастии, но принцип допускал приложение ко всякому факту жизни. С этой точки зрения, на которую становится здесь Станкевич, принятие любого реального момента оказывается изменой идеалу и, стало быть, единственное достойное человека призвание заключается в том, чтобы растить и холить в себе самодовлеющие идеалы. Еще до «деревенского романа» он так изображал «подвиг жизни»:
Когда любовь и жажда знаний
Еще горят в душе твоей,
Беги от суетных желаний,
От убивающих людей.
Себе всегда пред всеми верен,
Иди, люби и не страшись!
Пускай твой путь земной измерен —
С непогибающим дружись!
Пускай горенье света взыдет
Звездой злосчастья над тобой
И мир тебя возненавидит:
Отринь, попри его стопой!
Он для тебя погибнет дольный;
Но спасена душа твоя!
Ты притечешь самодовольный
К пределам страшным бытия.
Тогда свершится подвиг трудный:
Перешагнешь предел земной
И станешь жизнию повсюдной —
И все наполнится тобой.{41}
Но если так, во что же обращается жизнь? Что такое действительность?
В его глазах она лишена самостоятельного значения; она – не что иное, как поставщик сырого материала, из которого дух творит свои идеалы. Минутная любовь, пережитая Станкевичем, сослужила ему свою службу: в его фантазии «невольно составился» чудный идеал, «прототип женщины»{42}, сосредоточивший в себе все, что мир представляет светлого, божественного. Если голод сердца и не совсем утолен этим призраком – что делать! Надо терпеть и не унижаться до примирения со скудной действительностью.
Теперь Станкевич сам определяет свое состояние, как разрыв с миром. Его идеализм скрывает в себе внутреннее противоречие: это не победа над жизнью, а только ссора с нею. Станкевич сознает, что жить всей полнотой чувства в реальном он не способен, потому что слишком привязался к своим призракам, не может не прикидывать жизни на их мерку и, значит, не может не видеть ее несовершенств; но он готов проклинать этот свой скептицизм, делающий для него невозможным блаженство. Неискоренимое чувство, помимо всяких рассуждений, говорило ему, что здоровое, человечное, истинно радостное – только в одном: в бодром наслаждении действительной жизнью, в реальном личном упоении, то есть в том именно, что стало для него уже невозможным. С горечью говорит он о своем демоне-мучителе, о враждебном духе, льющем отраву на лучшие дни его жизни. Его душа, говорит он, была расположена все любить, все обнимать, но, пространствовав, еще недолго, по миру, она, огорченная, вернулась и заперлась в себе: скучно без мира, скучно и в мире!{43} Если бы не прекрасные призраки, ласкающие его порою, ему нечем было бы жить; но это не призраки желаний, а просто игра души с самой собою: это – жажда чего-то высшего, не знающая определенной цели, она спасает душу от усыпления, но не может дать ей крыльев.
Из этой коллизии нужно было во что бы то ни стало найти выход, потому что она грозила моральной смертью. Очевидно, что отречься от одного из двух элементов в пользу другого для Станкевича было невозможно: он слишком сжился с мечтою, чтобы удовлетвориться пошлой действительностью, какова она есть, и слишком ясно сознавал бесплотность мечты, чтобы, отвернувшись от жизни, всецело замкнуться в мире своих призраков. В этой разорванности между двумя мирами нельзя было жить. Нормальный ход развития неизбежно должен был привести к синтезу, в котором идеальное и реальное органически претворилось бы в одно целое, и Станкевич хорошо понимал это. Стремление выработать в себе цельность духа, без которой для человека немыслима никакая разумная жизнь, становится для него вскоре главной задачей. Ему придется истратить на эту работу немало лет, понадобится для исцеления еще одно тяжелое столкновение с действительностью, и цели он достигнет иным путем, чем думал, – но основной вопрос уже теперь ясно стоял пред его сознанием. Мало того: в теории все элементы положительного мировоззрения уже были у него налицо, – оставалось только оформить идеал, а главное, превратить его из мысли в прочное регулирующее чувство. Туманные идеалистические «призраки» недаром так долго обитали в душе Станкевича: они взрастили на благодатной почве высокие помыслы; и нам надо теперь узнать, что это была за почва и каковы были эти помыслы.
II
Религиозное чувство неискоренимо в душе Станкевича. Его переписка не дает материала для определения отличительных признаков его веры, но главное ее свойство выступает с полной ясностью: это была религия оптимистическая, светлая и радостная. В основе ее лежало врожденное чувство гармонии бытия.
По своему инстинктивному отношению к вселенной все люди, от неграмотного простолюдина до ученого, делятся на два типа – гармоничный и дисгармоничный. Первый характеризуется врожденным чувством законности мирового порядка, полным согласием собственного разума с закономерностью, господствующей в природе; это – души абсолютно акклиматизированные. Если это человек, одаренный творческим гением, то его творчество представляет собою положительный полюс мировой гармонии, точку, где собраны в ослепительный пучок многие из тех лучей вечной красоты, которые действительно каждый миг мириадами играют перед нами, но которые врозь, не собранные и не отраженные художником, едва видны нашему близорукому глазу. Таков наш Пушкин. Второй тип характеризуется врожденной дисгармоничностью, разладом между собственным сознанием и космическим разумом. Это люди с неприспособленной к миру психикой, вечно несчастные этой своей неприспособленностью; в их душе неистребимо живет сознательное или бессознательное представление о мире таком, каким он должен быть и каков он не есть, и чувства их улавливают в мире лишь те черты, которыми он уклоняется от этого идеального образа. Если такой человек – поэт, то его творчество становится отрицательным полюсом мировой гармонии, так сказать, фокусом мировых диссонансов. Таков наш Лермонтов. Каждый художник может быть подведен под одну из этих категорий, и трудно спорить, какая из них в искусстве больше служит человечеству: обе, хотя разными путями, ведут его туда, где сияет недостижимый храм ничем не омраченной красоты, ничем не возмущаемой радости. Ибо искусство не имеет другого предмета, как мировая гармония и стремление к ней; потому и Жуковский сказал: «Поэзия есть Бог в святых мечтах земли»{44}.
Под один из этих двух типов может быть подведен, повторяю, всякий человек. На низком уровне развития оба они являются нередко в полной своей чистоте, как бессознательное чувство гармонии бытия или, напротив, его дисгармонии. Но развитое сознание вносит сюда неисчислимые уклонения и порождает в обоих типах множество разновидностей. Одну из этих разновидностей представлял собою Станкевич: присущее его натуре инстинктивное утверждение мира, как гармонического, было его разумом создано и вполне освящено; чувство законности, разумности и благолепия мирового порядка сделалось у него сознательным убеждением и в годы возмужалости составляло основу как его религии, так и его этикофилософского мировоззрения. Естественно, что одна и другое были у него ярко окрашены оптимизмом.
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Избранное. Молодая Россия"
Книги похожие на "Избранное. Молодая Россия" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Михаил Гершензон - Избранное. Молодая Россия"
Отзывы читателей о книге "Избранное. Молодая Россия", комментарии и мнения людей о произведении.