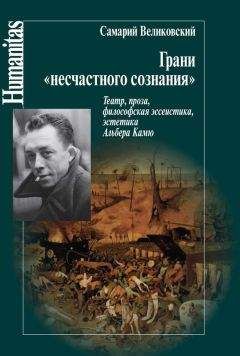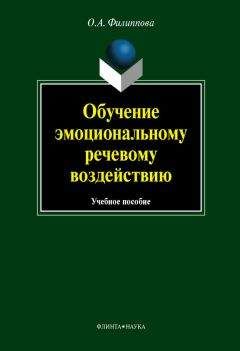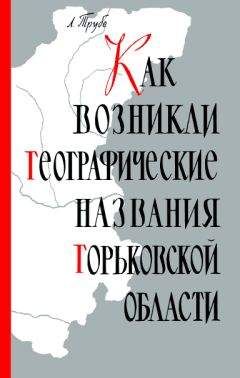Елена Бузько - «Сказание» инока Парфения в литературном контексте XIX века

Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.
Описание книги "«Сказание» инока Парфения в литературном контексте XIX века"
Описание и краткое содержание "«Сказание» инока Парфения в литературном контексте XIX века" читать бесплатно онлайн.
«Сказание» афонского инока Парфения о своих странствиях по Востоку и России оставило глубокий след в русской художественной культуре благодаря не только резко выделявшемуся на общем фоне лексико-семантическому своеобразию повествования, но и облагораживающему воздействию на души читателей, в особенности интеллигенции. Аполлон Григорьев утверждал, что «вся серьезно читающая Русь, от мала до велика, прочла ее, эту гениальную, талантливую и вместе простую книгу, — не мало может быть нравственных переворотов, но, уж, во всяком случае, не мало нравственных потрясений совершила она, эта простая, беспритязательная, вовсе ни на что не бившая исповедь глубокой внутренней жизни».
В настоящем исследовании впервые сделана попытка выявить и проанализировать масштаб воздействия, которое оказало «Сказание» на русскую литературу и русскую духовную культуру второй половины XIX в.
В качестве примера интересно сравнить описания Иордана в хожении Даниила и в сочинении Парфения. Текст Даниила в современном русском переводе выглядит так: «Иордан-река течет быстро, берега с той стороны крутые вначале, а затем идут пологие. Вода в реке очень мутная, но вкусная, и не насытишься, когда пьешь эту воду. С нее не бывает болезней и пакостей в животе человека <…> Глубина в месте купания паломников четыре сажени, я сам измерил и испытал во время переправы на другую сторону Иордана. Много пришлось походить по его берегу <…> На этой стороне Иордана, где купель, растут невысокие деревья, похожие на вербу, выше купели растет лозняк, но не как наша лоза, а как кустарник и тростник; прибрежная равнина напоминает тоже Сновь-реку. В зарослях водится зверей много: бесчисленное множество диких свиней, много и барсов тут, и даже львов. По той стороне Иордана — горы высокие каменные, они дальше от Иордана»[51]. С описанием той же реки в «Сказании» приведенный фрагмент имеет лишь поверхностное сходство. О своем пребывании с группой паломников на Иордане о. Парфений рассказывает: «Пустились все бежать, сколько у кого было силы. Старики, седые бороды, уподобились младым отрокам, с ноги на ногу прыгали. Старые жены, хотя и не могли прыгать, но, подхвативши свои одежды, аще и со слезами, обаче бежали, сколько силы есть, дабы скорее и прежде всех прибежать к Иордану. Как только подбежали к Иордану, то кто в чем был, в том и бросились в воду. Мы искупались до большого народа; и я со дна Иордана взял немного камней, благословения ради <…> Купались мы на том самом месте, где Иисус Навин переводил Израиля <…> Иордан река ширины саженей пятьдесят, но только весьма быстрая, и от быстроты мутная и глубокая в ярах. На том месте, где купаются, сажени на две можно ходить от берега. А на прочих местах купались, тамо держались за ветви древ; овые и переплывали, но с великим трудом, ибо очень велика струя и заплескивает. По обеим сторонам растет лес прекрасный и трава великая» (II, 241). Внимание к предметным деталям, столь свойственное древнерусскому паломнику, у Парфения оказывается второстепенным в сравнении с его душевными переживаниями, с пафосом его книги. С этой точки зрения можно говорить о «Сказании» как о сочинении, в котором преодолевается древнерусская традиция.
На наш взгляд, произведение о. Парфения обнаруживает лишь некоторые черты, сближающие его с хожениями. Многих авторов хожений отличают те или иные особенности повествования. Принято говорить о преобладании «простодушного» повествования у Даниила, подробном каталоге святынь у Антония Ядрейковича, апокрифических мотивах в писаниях Игнатия Смолянина. В тексте Парфения в значительной степени присутствует и то, и другое, и третье, но предпочтение отдается внутренней жизни человека. Эмоциональное повествование автора пронизывает каждый фрагмент его книги.
Если сравнение «Сказания» с древнерусскими хожениями позволяет судить о некотором сходстве между ними, то восходящая к сентиментализму традиция литературных «путешествий» оказывается вовсе чужда сочинению афонского постриженика. В отличие от древнерусских авторов, произведения путешественников XIX в. не являлись ориентиром для автора «Сказания». Знаменательной чертой повествования Парфения следует признать не только отсутствие влияния одного из ведущих жанров сентиментализма, но и влияния светской художественной литературы в целом. Несмотря на это, изучение и анализ паломнических сочинений современников Парфения позволяет выявить важные содержательные и художественные особенности «Сказания».
4
«Сказание» Парфения в контексте паломнической литературы первой половины XIX в.
1
«Сказание» имеет точки соприкосновения с теми произведениями новой паломнической литературы, где преодолевается древняя традиция, а личностное начало в повествовании очевидно преобладает. Личностное начало, несомненно, оказывается доминирующим в очерках Д. В. Дашкова «Афонская гора»[52] и «Русские поклонники в Иерусалиме»[53], в книге А. Н. Муравьева «Путешествие ко Святым местам в 1830 году», а также в сочинении С. А. Ширинского-Шихматова, известным под названием «Путешествие иеромонаха Аникиты к Святым местам Востока в 1834–1836 годах». Небезынтересны также палом нические сочинения А. С. Норова и П. А. Вяземского[54]. Эти произведения принадлежат ближайшим предшественникам Парфения, кроме того, они созданы авторами с устоявшимися литературными взглядами.
Различие взглядов на христианские святыни у автора «Сказания» (как и у древнего паломника) и путешественника «нового» времени сказалось главным образом в том, что у Парфения описание святых мест всегда соотносилось с текстом Священного Писания, с церковным преданием или же с апокрифической легендой. Современники Парфения в своем повествовании о Иерусалиме опираются на предание с большой избирательностью и осторожностью. Как правило, они не скрывают своего предубеждения против всего, что способствует широкому распространению легенды или порождает ее. Так, Дашков в очерке «Русские поклонники в Иерусалиме…», по-видимому, не приемлет не только апокрифическую легенду, но и критически относится к церковному преданию. Он как бы отбрасывает все то, «о чем так много спорили и продолжают спорить, изъясняя различно сказания древних», и потому в своем сочинении избегает подробного рассказа о главных достопримечательностях Иерусалима: «Не стану описывать того, что было много раз описано учеными и внимательными путешественниками»[55]. В этом основное и принципиальное отличие паломников XIX в. от древнерусских авторов, которые часто не только писали об одних и тех же предметах, но и с точностью повторяли один другого. Кроме того, сочинения об Афоне и Палестине, написанные Дашковым, Вяземским, Муравьевым, Норовым, отличаются лирическими отступлениями, широким использованием исторических, литературных источников, привлечением «чужого» слова.
Дашков, принадлежащий к писателям-паломникам «нового» времени, представляет для нас интерес как литератор, который на основе паломнической поездки создал яркий образец светского повествования. В основе путевых записок Дашкова лежат впечатления от реального путешествия: в 1820 г. он совершил поездку по Греции и Палестине[56].
Дипломат, советник русского посольства в Константино-поле, основатель и активный член «Арзамаского общества безвестных людей», Дашков еще в своей ранней критической статье («Нечто о журналах», 1812) разделял просветительские взгляды. Известно, что Дашков тяготел к античной культуре, владел древними языками, знал Гомера и Платона. Путешествуя по Греции, он пытается найти в монастырях греческие и латинские манускрипты, утраченные антологии эпиграмм Агафия, Филиппа Фессалоникского и Мелеагра, а также грузинскую Библию и материалы о «сношениях Константинопольской церкви с нашею».
Д. В. Дашков побывал на Святой горе почти за двадцать лет до Парфения, когда Афоном владела Турция, многие монастыри и скиты были в запустении, а в лесах полуострова находили укрытие как отшельники, так и преступники. От проницательного взгляда писателя и государственного деятеля, каким был Дашков, не скрылись ни «мнимая терпимость» турецкого правительства, ни «насильственное овладение» греками монастырем св. Пантелеймона, ни «неутомимое прилежание» и бедственное положение русских иноков Ильинского скита, ни недостатки управления в «самоуставных» монастырях, ни небрежение монахов к ценнейшим книгам и рукописям. Сведения, почерпнутые из очерка «Афонская гора», невозможно встретить в тексте Парфения: во время своего путешествия Дашков осматривал главным образом монастырские библиотеки, в которых надеялся отыскать «достойные внимания рукописи». Плачевное состояние ценных книг, «наваленных грудами», вид «покрытых пылью полусгнивших рукописей»[57] сильно опечалили Дашкова. В описаниях видов Афона, монастырских традиций и обычаев Дашков достаточно точен, но очень избирателен и краток. Понимая то, что почти каждая обитель на Святой горе имеет свой чудотворный образ и свои легенды, автор очерка приводит некоторые из них, но не сосредотачивает внимания на чудесах, явленных много веков назад.
В обоих заголовках сочинений Дашкова — «Русские поклонники в Иерусалиме», «Афонская гора» — отсутствовало имя автора, что для первой трети XIX в. являлось нормой. В традиционном паломническом сочинении жанр всегда обозначался в заглавии: «Житие и хождение Даниила, Русской земли игумена», «Путешествие московских купцов Трифона Коробейникова и Юрия Грекова», «Странствование Василия Григоровича-Барского по Святым местам Востока» и др. С XVIII в., со времени широкого распространения в России традиции западноевропейских путешествий, заголовок приобретает совершенно особую смысловую нагрузку: он задает определенную «литературную позу»[58]. (Ср.: «Сентиментальное путешествие по Франции и Италии» Стерна, «Путешествие из Петербурга в Москву» Радищева, «Письма русского путешественника» Карамзина). В случае с Дашковым заглавия настраивали читателя на сюжетное повествование, указание же на жанровую форму было вынесено в подзаголовок: «Отрывок из путешествия…». Между тем читательские ожидания разрушаются: перед нами стилистически разноплановые, фрагментарные путевые заметки, формально подчиненные хронологической последовательности.
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "«Сказание» инока Парфения в литературном контексте XIX века"
Книги похожие на "«Сказание» инока Парфения в литературном контексте XIX века" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Елена Бузько - «Сказание» инока Парфения в литературном контексте XIX века"
Отзывы читателей о книге "«Сказание» инока Парфения в литературном контексте XIX века", комментарии и мнения людей о произведении.