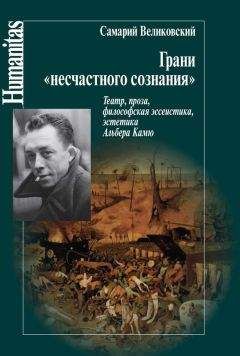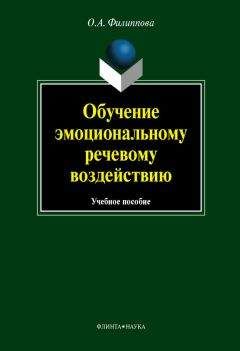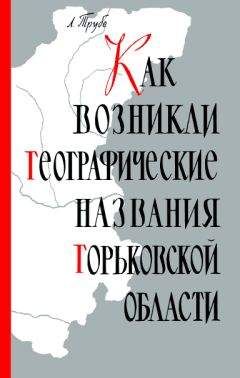Елена Бузько - «Сказание» инока Парфения в литературном контексте XIX века

Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.
Описание книги "«Сказание» инока Парфения в литературном контексте XIX века"
Описание и краткое содержание "«Сказание» инока Парфения в литературном контексте XIX века" читать бесплатно онлайн.
«Сказание» афонского инока Парфения о своих странствиях по Востоку и России оставило глубокий след в русской художественной культуре благодаря не только резко выделявшемуся на общем фоне лексико-семантическому своеобразию повествования, но и облагораживающему воздействию на души читателей, в особенности интеллигенции. Аполлон Григорьев утверждал, что «вся серьезно читающая Русь, от мала до велика, прочла ее, эту гениальную, талантливую и вместе простую книгу, — не мало может быть нравственных переворотов, но, уж, во всяком случае, не мало нравственных потрясений совершила она, эта простая, беспритязательная, вовсе ни на что не бившая исповедь глубокой внутренней жизни».
В настоящем исследовании впервые сделана попытка выявить и проанализировать масштаб воздействия, которое оказало «Сказание» на русскую литературу и русскую духовную культуру второй половины XIX в.
3
Для автора «Путешествия» признание Пушкина было принципиально важно. Муравьев знал, что за пресловутой эпиграммой «Лук звенит, стрела трепещет…» стояло пушкинское неприятие его литературных начинаний, равно как и его репутации талантливого поэта. Именно поэтому о признании Пушкиным своей вины, признании, столь льстящем самолюбию Муравьева, подробно рассказано в его воспоминаниях 1871 г., которые названы «Мое знакомство с русскими поэтами». Муравьев пишет: «Четыре года я не встречался с ним <Пушкиным> по причине Турецкой кампании и моего путешествия на Востоке и совершенно нечаянно свиделся в архиве Министерства иностранных дел, где собирал он документы для предпринятой им истории Петра Великого. По моей близорукости я даже сперва не узнал его; но благородный душою Пушкин устремился прямо ко мне, обнял крепко и сказал: «Простили ль вы меня? А я не могу доселе простить себе свою глупую эпиграмму, особенно когда я узнал, что вы поехали в Иерусалим. Я даже написал для вас несколько стихов: что, когда при заключении мира все сильные земли забыли о святом граде и гробе Христовом, один только безвестный юноша о них вспомнил и туда устремился. С чрезвычайным удовольствием читал я ваше путешествие». Я был тронут до слез и просил Пушкина доставить мне эти стихи, но он никак не мог их найти в хаосе своих бумаг, и даже после его смерти их не отыскали, хотя я просил о том моего приятеля Анненкова, сделавшего полное издание всех его сочинений»[101].
Как видим, слова Пушкина преподносятся Муравьевым в качестве оценки «Путешествия».
Об этой же встрече с Пушкиным Муравьев писал ранее, в «Моих воспоминаниях», но в этих мемуарах он не упоминает о чтении Пушкиным его книги: «Зимою нечаянно встретил я его в архиве Министерства и не узнал, но он первый ко мне устремился и сказал: «До сих пор не могу простить себе глупой моей эпиграммы. Я был весьма тронут, когда услышал по окончании войны, что вы поехали в Иерусалим, и тогда же написал для вас стихи в таком смысле, что, когда цари земные, заключая мир, позабыли святой град, один лишь безвестный юноша вспомнил о нем и пошел поклониться Гробу Христову». Я был тронут до слез и благодарил знаменитого поэта за его утешительное слово, которое так прямо вытекло из его благородной души. Пушкин обещал мне отыскать стихи свои, но сколько ни рылся в бумагах, не мог найти их; написать же новые, как бы с подогретыми чувствами, было бы странно: так они и пропали»[102].
В «Знакомстве…» Муравьев допускает явный анахронизм: зимой 1831–1832 гг. в то время, когда произошла описываемая встреча, «Путешествие» еще не было опубликовано. Н. А. Хохловой было точно установлено, что книга вышла не ранее середины июня 1832 г. и Пушкин мог познакомиться с «Путешествием» лишь во второй половине года. По верному наблюдению исследовательницы, «Знакомство» представляет собой серию очерков, касающихся истории взаимоотношений Муравьева с Пушкиным, Лермонтовым, Гоголем и др. Каждый из очерков должен был вобрать в себя все факты, относящиеся к знакомству с тем или иным писателем. Н. А. Хохлова справедливо считает, что следуя этой логике, Муравьев «подверстал» к рассказу о посвященном ему стихотворении упоминание о «Путешествии», так как это составляло единый «пушкинский» сюжет[103]. Исследовательница приходит к выводу, что в воспоминаниях речь идет именно о стихотворении Пушкина: «Было ли оно действительно написано и впоследствии «затерялось», или это была некая мистификация со стороны поэта — вряд ли возможно установить»[104].
Сходство заметки Пушкина с приведенными воспоминаниями Муравьева очевидно: «Во время переговоров, среди торжествующего нашего стана, в виду смятенного Константинополя, один молодой поэт думал о ключах Св. Храма, о Иерусалиме, ныне забытом христианскою Европою для суетных развалин Парфенона и Ликея <…>
С умилением и невольной завистью прочли мы книгу г-на М<уравьева>. Здесь <у подошвы Сиона> — говорит другой русский путешественник — <всяк христианин, всяк верующий, кто только сохранил жар в сердце и любовь к великому>. Но молодой наш соотечественник привлечен туда не суетным желанием обрести краски для поэтического романа, не беспокойным любопытством найти насильственные впечатления для сердца усталого, притупленного. Он посетил св. места как верующий, как смиренный христианин, как простодушный крестоносец, жаждущий повергнуться во прах перед гробом Христа Спасителя»[105].
Текст Пушкина под редакторским названием «Путешествие к Св. местам» А. Н. Муравьева» до сего времени рассматривался как рецензия на книгу[106]. Но следует подчеркнуть, что он может быть отнесен как к сочинению Муравьева, так и к самому факту его паломничества. Строки «С умилением и невольной завистью прочли мы книгу г. Муравьева» не относятся непосредственно к его книге[107] и выражают скорее отношение Пушкина не к писательскому таланту Муравьева, а к его поступку, который действительно вызвал в обществе восторженный интерес. Странствование дворянина в Святую Землю для 1830-х гг. XIX в. — явление довольно редкое, даже исключительное. Из текста Пушкина видно, что для него заслуга Муравьева прежде всего в том, что тот посетил святые места «как верующий, как смиренный христианин, как простодушный крестоносец…». Исходя из текста Пушкина вполне разумно допустить, что не книга Муравьева, а его подвиг рыцарства противопоставлен позиции Шатобриана. Ту же мысль о разности религиозных переживаний можно найти у современника Пушкина Надеждина[108]. В «Путешествии в Арзрум» Муравьев упомянут Пушкиным как поэт, который «обдумывал свое путешествие к Святым местам, произведшее столь сильное впечатление»[109]. Ю. Н. Тынянов считает, что Муравьев в данном случае был для Пушкина удобным примером поэта, одновременно с ним побывавшего на театре военных действий в 1829 г. и не воспевшего подвиги русских[110]. Сочувственная заметка Пушкина о путешествии Муравьева, по мнению Тынянова, продиктована цензурными соображениями. Это же предположение высказал Е. И. Рыскин, заметив, что Пушкин, общаясь с Муравьевым в 1830-е годы, тем самым хотел защитить свои сочинения от жесткой духовной цензуры[111]. И хотя в предисловии к «Путешествию в Арзрум» речь идет о неком сочинении, сатире на русский военный поход, строки Пушкина о Муравьеве не допускают однозначную трактовку, а, следовательно, не являются свидетельством достоинств «Путешествия ко Святым местам в 1830 году». Приведенные доводы заставляют усомниться в искренности пушкинской оценки как личности Муравьева, так и его сочинения.
Попытка восстановить картину восприятия «Путешествия» современниками, основанная на неофициальных источниках опровергает необыкновенную популярность книги. Не предназначенные для печати суждения сохранились в воспоминаниях и переписке современников.
Любопытное свидетельство о резком неприятии Гоголем книги Муравьева содержат воспоминания Ф. В. Чижова[112], товарища Гоголя по службе в Патриотическом институте. По словам мемуариста, Н. В. Гоголь, «не признавая решительно никаких достоинств» книги и находя в ней «отсутствие языка», идет вслед за Пушкиным, который в свою очередь «терпеть не мог Муравьева» <речь идет о его книге>. Из текста воспоминаний следует, что суждение Гоголя вполне разделял и Н. М. Языков: «…как-то мы говорили о М-ве <Муравьеве>, Гоголь отзывался об нем резко, не признавал в нем решительно никаких достоинств и находил в нем отсутствие языка». «Оставшись потом наедине с Языковым, — вспоминает Чижов, — я начал говорить, что нельзя не отдать справедливости М-ву за то, что он познакомил наш читающий люд со многим в нашем богослужении и вообще в нашей церкви. Языков отвечал: «М-ва терпеть не мог Пушкин. Ну, а чего не любил Пушкин, то у Гоголя делается уже заповедью и едва только не ненавистью»[113].
Показательно так же различие реакции на писания Муравьева в официальных отзывах и частной переписке. В 1846 г. Я. К. Грот писал П. А. Плетневу: «…прочел я у Муравьева (святоши) о Валаамском монастыре — один высокопарный набор слов!»[114]. В ответном письме Плетнева Гроту характеристика автора «Путешествия» еще более ядовита: «Таков-то Андрей Муравьев и во всех описаниях Св. мест. С документами налицо надобно бы когда-нибудь развенчать этого ханжу, увенчанного невежеством, а паче трусостью»[115]. Публичного развенчания, как известно, не последовало.
Наиболее резкие высказывания как о Муравьеве, так и о его «Путешествиях…», приходятся на то время, когда его деятельность в Синодальном ведомстве за обер-прокурорским столом критически оценивается современниками. Осуждению подвергается не только привычка Муравьева к «прямой слежке за действиями иерархических властей», его «слишком навязчивое вмешательство» во внутреннюю церковную жизнь, но, что особенно примечательно, моральный облик автора «Путешествия». Например, в дневниковых записях и в автобиографии Чернышевского упоминания о Муравьеве пронизаны едкой иронией: «…первый разговор был о <…> Муравьеве, о котором я сказал, что он может в 3 минуты положить 97 земных поклонов и что на этот фокус собираются смотреть по билетам»[116]. Восторженное повествование автора «Путешествия», высоко оцененное критикой 1830-х г., в глазах читателей последующих поколений явно теряет свое достоинство.
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "«Сказание» инока Парфения в литературном контексте XIX века"
Книги похожие на "«Сказание» инока Парфения в литературном контексте XIX века" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Елена Бузько - «Сказание» инока Парфения в литературном контексте XIX века"
Отзывы читателей о книге "«Сказание» инока Парфения в литературном контексте XIX века", комментарии и мнения людей о произведении.