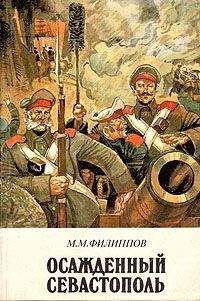Михаил Гершензон - Избранное. Мудрость Пушкина

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Избранное. Мудрость Пушкина"
Описание и краткое содержание "Избранное. Мудрость Пушкина" читать бесплатно онлайн.
Михаил Осипович Гершензон – историк русской литературы и общественной мысли XIX века, философ, публицист, переводчик, неутомимый собиратель эпистолярного наследия многих деятелей русской культуры, редактор и издатель.
В том входят три книги пушкинского цикла («Мудрость Пушкина», «Статьи о Пушкине», «Гольфстрем»), «Грибоедовская Москва» и «П. Я. Чаадаев. Жизнь и мышление». Том снабжен комментариями и двумя статьями, принадлежащими перу Леонида Гроссмана и Н. В. Измайлова, которые ярко характеризуют личность М. О. Гершензона и смысл его творческих усилий. Плод неустанного труда, увлекательные работы Гершензона не только во многих своих частях сохраняют значение первоисточника, они сами по себе – художественное произведение, объединяющее познание и эстетическое наслаждение.
Часть третья
Истоки Гольфстрема
Я исполнил первую часть моей задачи – обнаружил и описал явление. Мне осталась вторая и труднейшая часть – объяснить это явление, то есть найти его достаточное основание. На протяжении четырех или пяти тысячелетий от Риг-Веды и Библии до нас самих в человеческом разуме незыблемо коренится знание, что душа – огонь и различные душевные состояния суть различные стадии горения. Это знание задолго до нас замерло и отвердело в словах, так что мы исповедуем его безочетно; но некогда оно было живо, и мысль народов кипела, вырабатывая его. Четыре или пять тысячелетий – для нас незапамятная древность, в жизни человечества – вчерашний день; это знание слагалось сравнительно недавно, уже на высокой ступени умственного развития. Чтобы понять его, нам надо войти в это живое кипение мысли, столь чуждой нам с виду, и однако, единокровной нам, потому что человеческой.
I
Сквозь мглу времен мы можем различить только общие очертания истины, познанной человечеством в ту далекую пору, даже не горный кряж ее, а лишь ряд вершин на краю горизонта, окутанный облаками.
Первою встает пред нами самая смутная и вместе самая мощная идея древнего мышления – идея Бога. Ее можно всего точнее определить, как умозрительный образ чистого бытия. Все, что существует, и все, что происходит, объединяется одним признаком – бытия. Вещь есть, явление в своем свершении есть: вот общее всем вещам и явлениям и важнейшее в них. И это всюду наличное есть, по представлению первобытной мысли, не может быть ничем иным, нежели повсюдным есмь, то есть присутствием во всех вещах и явлениях единой мировой силы. Тем самым понятие бытия сливается с понятием движения, деятельности. Одна и та же таинственная сила создает все вещи и непрерывно действует в них; все существующее, вопреки разнообразию его форм, в основе – одно и то же, и это общее в нем – не какая-нибудь субстанция, не вещество или форма, но некое нематериальное начало – бытия, то есть движения. Эта первобытная вера изрекала одно – что во всякой вещи есть тайная динамическая сила. Вездесущее божество той религии совпадало с нашим понятием энергии.
Современные историки единогласно признают, что древнейшей формой религии было представление о единой безличной деятельной силе, производящей явления. Они различно называют это раннее верование: теопласмой, Allbeseellung, all-pervading, animism или преанимизмом, потому что только цельный образ божества мог позднее разложиться и породить так называемый анимизм – веру в особенную одушевленность каждого отдельного существа; или, наконец, точнее всего, динамизмом[122]. Гигантский образ библейского Бога, как он рисуется в древнейших частях Ветхого завета, несомненно воплотил в себе это древнее представление о безличной миродержавной силе[123]. Пережитком той же веры было представление ассиро-вавилонян о злых демонах, которые мыслились бестелесными и оттого проникающими всюду, о главном из них, Аму, прямо говорится, что у него нет ни телесных членов, ни слуха, ни зрения[124]. У полудиких народов до сих пор находят следы того же верования. Эндрью Лэнг и Гоуитт согласно свидетельствуют, что южные австралийцы своему высшему богу, «отцу и творцу», Беджеми или Дарумулуну, не приносят жертв, как остальным богам, и не делают никаких его изображений: знак древнейшего теизма[125]. Единую безличную движущую мировую силу почитают бафиоти на западном побережьи Африки под именем mokisie, малайцы под именем semangat, североамериканские индейцы под именем wakan, гуроны под именем orenda, меланезийцы под именем mana, негры Золотого Берега под именем wong[126].
Один из новых исследователей метко указал на свойство первобытного человека, общее ему с ребенком: не замечать неподвижных вещей и обращать все свое внимание на вещи движущиеся[127]. Корнесловие индоевропейских языков показывает, как из наследственного опыта таких восприятий развилось первое, еще самое общее, религиозное представление. Божество вообще, не определяемое точнее, именовалось в греческом языке theόs, в латинском deus; позднее верховный бог носил у греков имя Zeus, у древних германцев Zio; все эти имена восходят к праарийскому имени высшего божества Дьяус, от корня dheu, означавшего только движение, как показывают производные от него слова: греческое théo – бегу, готское dius и англосаксонское déor – дикий зверь, откуда немецкое Thier – зверь; тот же корень dheu, сокращенный в dhu, образует санскритское dhunoti – двигать, трясти, греческое thyno – устремляться, и thymόs – душа, санскритское dhumah – дым, пар, и латинское fumus – дым, наши слова дух, дыхание, дуть и дым[128]: единый в различных формах образ движения, привлекавший внимание людей раньше всех частных качеств явления, и в этой связи Dyâus, deus, theόs, единое неопределенное божество, как абсолютное движение, источник всякого частного движения в мире.
II
Но почему с именем Dyâus неразрывно связано понятие света и в поздней индийской литературе Dyâus употребляется в женском роде и обозначает небо? Почему вообще в арийских религиях божество неизменно представляется светоносным и обитающим в высоте? – Эти вопросы приводят нас к другой важной идее древнего мышления – к понятию эфира.
Одним из самых поразительных открытий человеческого ума несомненно надо признать древнейшее представление о свете. В доисторическую эпоху различные народы по-видимому самостоятельно, каждый из своего опыта, извлекли познание, что свет солнца – не самобытный, а производный, что существует космический свет, не зависящий от солнца, напротив, питающий и его, и все другие отдельные источники света; и местопребыванием этого всемирного света признавалось пространство, лежащее за земной атмосферой. Это представление можно еще явственно различить по следам, какие оно оставило в поздних верованиях народов. Физика древних индусов признавала, рядом с землей, воздухом, огнем и водою, пятый элемент, отличный от воздуха и огня, – акас или акаса, эфир, из которого, по Упанишадам, образуется путем сгущения все существующее, и космогония Риг-Веды всецело зиждется на различении неба или света – и воздуха: обителью вечного света является не воздух, а беспредельная сфера над воздухом[129]. О первозданном свете, не зависящем от солнца, говорит и Книга Бытия: Бог в первый день, до всякого творения, создает свет и отделяет его от тьмы, затем – во второй и третий – твердь и воды и растения, и только в четвертый день – солнце и месяц. Греки несомненно принесли с прародины то же представление о мировом эфире, светящем помимо солнца. По «Теогонии» Гесиода образование мира началось с того, что Гемера (дневной свет) вместе с Эфиром родились от Ночи задолго до рождения солнца. Это темное предание орфики позднее вплели в свою сложную и глубокомысленную космогонию; они учили, что довременная вечность, Хронос, сначала родила Хаос – туманность, полную духа и содержавшую в себе зародыши всех вещей, и огненный Эфир; Хаос-туман, придя в вихревое движение и вращаясь все быстрее, образовал мировое яйцо вокруг Эфира, как ядра; когда же яйцо раскололось, из ядра-Эфира родился Фанес – космический свет и разум: он то и создал позднее солнце и другие светила[130]. Греческая поэзия и философия рисуют определенный и вполне однородный образ эфира. «Илиада» точно различает aithér, эфир, как верхнюю сферу, и aér, воздух – низшую сферу, как например в том месте, где о высочайшей ели на Иде (на верхушку этой ели сел Сон) говорится, что она вершиною «сквозь воздух уходила в эфир»[131]. Для «Илиады» «эфир» и «небо» – синонимы; она говорит: «в небесах разверзается беспредельный эфир»[132]. Он знает также, что эфир светоносен, и называет его несолнечный свет «сияниями Зевса»: «боевые клики достигали эфира и Зевсовых сияний»[133]. Эсхил называет эфир «божественным», и в другом месте его Прометей, призывая эфир в свидетели своих неправых страданий, определяет его так: «О, Эфир, вращающий общий всем свет!». – Эврипид называет его «объемлющим землю сияющим эфиром», и прилагательное lamprόs, – сияющий, светлый, – есть неизменный эпитет эфира в греческой поэзии; орфический гимн славит «огнедышащий, поддерживающий горение во всех живых существах, вверху сияющий Эфир»; Анаксимандр мыслил его как пламя, окружающее мир подобно коре дерева, Эмпедокл называет его «божественным» и «сияющим», Платон в «Тимее» – «светлейшей сферой воздуха», Парменид учил об изначальном творческом эфирном огне, – и конечно то же представление об эфире легло в основание Гераклитовой концепции; по Аристотелю эфир – крайняя, самая большая сфера, заключающая в себе последовательно четыре меньших, в таком порядке: эфир, огонь, воздух, вода, земля; и т. д.[134]
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Избранное. Мудрость Пушкина"
Книги похожие на "Избранное. Мудрость Пушкина" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Михаил Гершензон - Избранное. Мудрость Пушкина"
Отзывы читателей о книге "Избранное. Мудрость Пушкина", комментарии и мнения людей о произведении.