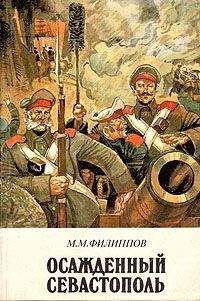Михаил Гершензон - Избранное. Мудрость Пушкина

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Избранное. Мудрость Пушкина"
Описание и краткое содержание "Избранное. Мудрость Пушкина" читать бесплатно онлайн.
Михаил Осипович Гершензон – историк русской литературы и общественной мысли XIX века, философ, публицист, переводчик, неутомимый собиратель эпистолярного наследия многих деятелей русской культуры, редактор и издатель.
В том входят три книги пушкинского цикла («Мудрость Пушкина», «Статьи о Пушкине», «Гольфстрем»), «Грибоедовская Москва» и «П. Я. Чаадаев. Жизнь и мышление». Том снабжен комментариями и двумя статьями, принадлежащими перу Леонида Гроссмана и Н. В. Измайлова, которые ярко характеризуют личность М. О. Гершензона и смысл его творческих усилий. Плод неустанного труда, увлекательные работы Гершензона не только во многих своих частях сохраняют значение первоисточника, они сами по себе – художественное произведение, объединяющее познание и эстетическое наслаждение.
и т. д. в том же духе. Легко понять, как нелепо должно было казаться это обвинение человеку, писавшему, что любовь к отечеству – вещь прекрасная, но есть нечто еще более высокое, именно – любовь к истине.
При такой разности мировоззрений обе стороны должны были, очевидно, далеко расходиться в своих историко-философских взглядах. Оценка нашей до-Петровской старины и оценка Петровской реформы; сравнительное определение славянского и западноевропейского духа; характеристика современного состояния Европы; указание пути, на который следует отныне перевести Россию, – таковы были конкретные пункты разногласия между Чаадаевым и славянофилами. Ни с той, ни с другой стороны здесь не было ни случайности, ни произвола: это были две органически-цельные системы, непреложно обусловленные, одна – религиозно-исторической идеей Чаадаева, другая – пламенным национальным чувством славянофилов. Если в одном пункте обе системы совпадали, именно в признании всемирно-исторической миссии русского народа, то это была та точка слияния, в которой встречаются две пересекающиеся линии, чтобы затем снова разойтись под прежним углом. Чаадаев говорил: Россия не дала еще никаких доказательств своего высокого призвания, но, судя по ее нынешнему состоянию, она способна со временем стать во главе человечества, если будет исполнено такое-то условие; славянофилы, напротив, утверждали, что прошлое России представляет таких доказательств в избытке, и что она уже – и искони – владеет той силой, которая имеет освободить род людской (гармоническим сочетанием разума и чувства в противоположность западному рационализму), так что все дело только в одном отрицательном условии; и их условие (отказ от пути, на который вывел Россию Петр Великий) было, как мы знаем, диаметрально-противоположно Чаадаевскому.
Письма Чаадаева за последние пятнадцать лет его жизни показывают его нам всецело поглощенным борьбою с славянофильством. Он говорит о нем всегда, по всякому поводу и совсем без повода, во всех тонах, от трагического и кончая шутливым. Пишет ли он Шеллингу, – его выспренная речь тотчас сбивается на жалостное повествование об этом «умственном кризисе», об этом «пагубном учении» русских националистов. По поводу Шевыревского курса истории русской литературы он пишет Сиркуру{256} пространное (в пять убористых печатных страниц) письмо, где тонко отточенным сарказмом препарирует всю нелепость славянофильского учения, как студент-медик – мускулатуру руки. Нет надобности цитировать эти письма: в них нет ничего существенно-нового; Чаадаев скорбит о национальном самообмане, высмеивает ретроспективную утопию славянофилов, их пренебрежительное отношение к Западной Европе, и пр., – словом, все, что мы знаем. Ирония была, вероятно, его излюбленным полемическим средством и в прямом, то есть устном споре с ними. О тоне его полемики мы можем догадаться по немногим сохранившимся его запискам к Хомякову и Киреевскому. Вот что, например, он писал Хомякову{257}, благодаря за присылку его статьи о Феодоре Иоанновиче: «Спасибо вам за клеймо, положенное вами на преступное чело царя, развратителя своего народа (т. е. Иоанна Грозного), спасибо за то, что вы в бедствиях, постигших после него Россию, узнали его наследие. Я уверен, что на просторе вы бы нашли следы его нашествия и в дальнейшем от него расстоянии. В наше, народною спесью околдованное время, утешительно встретить строгое слово об этом славном витязе славного прошлого, произнесенное одним из умнейших представителей современного стремления. Разногласие ваше в этом случае с вашими поборниками подает мне самые сладкие надежды. Я уверен, что вы со временем убедитесь и в том, что точно так же, как кесари римские возможны были в одном языческом Риме, так и это чудовище возможно было в той стране, где оно явилось. Потом останется только показать прямое его исхождение из нашей народной жизни, из того семейного, общинного быта, который ставит нас выше всех народов в мире и к возвращению которого мы всеми силами должны стремиться. В ожидании этого вывода, – не возврата, – благодарю вас еще раз за вашу статью», и т. д.[430]
Это было очень зло, но и очень метко.
Однако, главной мишенью его нападок были не исторические ошибки и реакционные вожделения славянофилов: его ужасала больше всего та атмосфера национального самодовольства, в которую они погрузили общество. Он, любивший в России только ее будущее, то есть ее возможный прогресс, не мог без боли смотреть на эту духовную сытость, в корне враждебную всякому прогрессивному движению и искажавшую народный характер. Это настроение умов кажется ему смертельной болезнью, грозящей подкосить всю будущность русского народа, и он не устает следить за ее проявлениями, за ее гибельным действием на все общество в целом и на отдельных членов его. «Не поверите, до какой степени люди в краю нашем изменились с тех пор, как облеклись этой народною гордынею, неведомой боголюбивым отцам нашим»: эта жалоба двадцать лет не умолкает в его письмах. Потому что в прошлом – это надо заметить – он не находил у нас даже признаков национальной кичливости: «Мы искони были люди смирные и умы смиренные», – говорит он; – и этому смирению «обязаны мы всеми лучшими народными свойствами своими, своим величием, всем тем, что отличает нас от прочих народов и творит судьбы наши»[431]. Самодовольством отравили нас уже только славянофилы.
Среди нескольких замечательных писем Чаадаева, которыми отмечены для нас последние годы его жизни, первое место бесспорно принадлежит тому письму 1847 года{258}, где он изложил свои мысли о «Переписке с друзьями». Историко-литературная оценка, которую Чаадаев дает здесь книге Гоголя, остается непревзойденной и доныне, как по верности в целом, так и по тонкости психологических наблюдений. Основная мысль этого разбора – та, что в недостатках книги виноват не сам Гоголь, а окружающая его среда, другими словами – славянофилы.
«Как вы хотите, чтоб в наше надменное время, напыщенное народною спесью, писатель даровитый, закуренный ладаном с ног до головы, не зазнался, чтоб голова у него не закружилась? Это просто невозможно. Мы нынче так довольны всем своим родным, домашним, так радуемся своим прошедшим, так потешаемся своим настоящим, так величаемся своим будущим, что чувство всеобщего самодовольства невольно переносится и к собственным нашим лицам. Коли народ русский лучше всех народов в мире, то само собою разумеется, что и каждый даровитый русский человек лучше всех даровитых людей прочих народов. У народов, у которых народное чванство искони в обычае, где оно, так сказать, поневоле вышло из событий исторических, где оно в крови, где оно вещь пошлая, там оно по этому самому принадлежит толпе и на ум высокий никакого действия иметь уже не может; у нас же слабость эта вдруг развернулась, наперекор всей нашей жизни, всех наших вековых привычек и понятий, самым неожиданным образом, так что всех застала врасплох, и умных, и глупых: мудрено ли, что и люди, одаренные дарами необыкновенными, от нее дуреют! Стоит только посмотреть около себя, сейчас увидишь, как это народное чванство, нам доселе чуждое, вдруг изуродовало лучшие умы наши, в каком самодовольном упоении они утопают с тех пор, как совершили свой мнимый подвиг, как открыли свой новый мир ума и духа» (то есть мир до-Петровской Руси)[432].
При всем том нет никакого сомнения, что Чаадаев и славянофильство взаимно оказали друг на друга глубокое влияние.
Литературное наследство, оставленное нам Чаадаевым, представляет собою торс без головы и ног: утрачены первые его письма, где были изложены его априорные утверждения о Боге и человеке, и утрачены, очевидно, многие письма 40-х и 50-х годов, например к Тютчеву или И. Киреевскому, по которым мы могли бы ближе определить характер его основных практических пожеланий в связи с его окончательным взглядом на Россию. Не дошли до нас и письма славянофилов к нему[433]. Между тем, если не считать устных бесед, письма представляли собою, по цензурным условиям того времени, единственную форму, в которую могла облекаться его полемика с славянофилами. Таким образом, вопрос о его прямом влиянии на славянофильство и обратно может быть решен только в самом общем виде, да и то лишь предположительно. Именно, исходя от сущности того и другого учения, можно предполагать, что на развитие славянофильских идей должна была повлиять универсальная постановка религиозной проблемы у Чаадаева, тогда как Чаадаеву естественно было усвоить некоторые обобщения славянофилов в области русской истории. Первую догадку высказал П. Н. Милюков, говоря, что Чаадаев «едва ли не первый открыл славянофилам глаза на общую связь идей христианской исторической философии, а только в той связи православная религиозная идея получала всемирно-историческое значение»[434]. Наоборот, Чаадаев, как мы видели, свое новое истолкование православной религиозной идеи заимствовал, вероятно, у славянофилов. «Смирение», как отличительная черта «наших боголюбивых предков» на всем протяжении русской истории, и как результат влияния их религии, «глубоко пропитанной созерцанием и аскетизмом», – это чисто-славянофильские представления, органически вошедшие в систему идей Чаадаева.
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Избранное. Мудрость Пушкина"
Книги похожие на "Избранное. Мудрость Пушкина" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Михаил Гершензон - Избранное. Мудрость Пушкина"
Отзывы читателей о книге "Избранное. Мудрость Пушкина", комментарии и мнения людей о произведении.