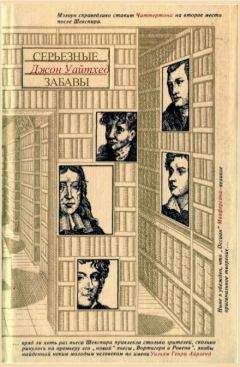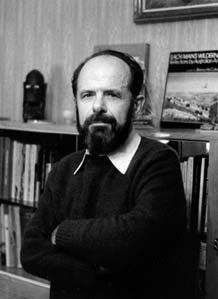Джеймс Биллингтон - Икона и Топор
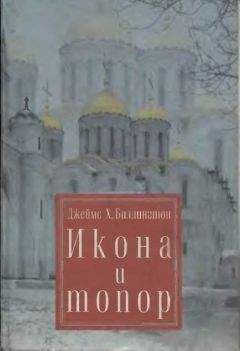
Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Икона и Топор"
Описание и краткое содержание "Икона и Топор" читать бесплатно онлайн.
И наконец, религиозные идеи открыли значительному числу молодых людей, ищущих избавления от скуки внутри СССР, новые сферы фантазии. В литературе послесталинской эпохи множатся темы и образы, заимствованные из православного наследия. Нередки стали библейские названия, как, например, в романе Дудинцева «Не хлебом единым». Имена часто имеют символический смысл, как в «Тени», где идеалиста-героя, борющегося со своей Тенью, зовут Христиан Теодор, а девушку, которая одна только и остается с ним, — Аннунциата (от лат. «благовещение»), В первоначальной редакции «Все остается людям» (называвшейся «Светоч») православный священник предстает не карикатурным реакционером, но идеальным советским человеком — математиком и героем войны, — который обратился к христианству, чтобы служить человечеству. И хотя цензура вычеркнула такие детали, священник и в пересмотренной редакции вполне достойно разъясняет свою веру. Он не пытается опровергнуть традиционные антирелигиозные аргументы атеиста-ученого, но скорее контратакует на более глубоком уровне, утверждая, что «молодые взыскуют, а вы им ответа не даете»[1577].
Вот этот-то феномен и делает пробудившийся интерес к религии серьезнейшей помехой для режима, каков бы ни был фактический масштаб религиозного сознания. Выдвигая лозунг «больше атеистических книг, хороших и разных!»[1578], коммунистические чиновники справедливо сетуют, что литература, специально призванная разоблачать религиозные секты в СССР, зачастую относится к своему предмету с бесстрастной объективностью, если не с симпатией. Необычный жизненный уклад и верования сектантов более созвучны фантасмагорическому и гипотетическому миру советской молодежи, чем бесцветный мир бюрократического атеизма. И сектантская религия, судя по всему, для молодежи даже еще привлекательнее, нежели само православие или ультраправославие раскольников. Коммунистическая пресса постоянно сетует на активность и изворотливость таких сект, как Свидетели Иеговы и Адвентисты седьмого дня. Во многих отношениях эти секты напоминают давние формы апокалиптичного сектантства, которое тоже прививало новые западные религиозные формы к давно устоявшейся местной традиции[1579].
Куда более значимую роль, в силу своей влиятельности в городах и среди образованной молодежи, играют баптисты, к которым тяготели некоторые из более пиетистских и менее апокалиптичных местных сектантов (например, молокане). Коммунистическая пресса неоднократно сообщала о молодых людях, выходивших из комсомола и присоединявшихся к баптистской молодежной организации, известной в народе как «баптомол»[1580]. В 1962 г. руководитель ВЛКСМ, этой щедро финансируемой гигантской организации, с трибуны комсомольского съезда публично призывал своих сторонников превзойти энтузиазмом и жертвенностью гонимую и неимущую баптистскую молодежь.
В секте баптистов насчитывается 600 000 активных взрослых членов, но под влиянием библейской простоты и пылкой набожности этой секты находится значительно больше людей. Именно баптист стал главным положительным героем повести Н. Дубова «Жесткая проба» и ярким второстепенным персонажем в «Одном дне Ивана Денисовича». Обращение к таким упрощенным формам христианства характерно и для ряда образованных людей. Даже ведущая газета советских педагогов напечатала красноречивый profession defoi[1581] учительницы с университетским образованием (вкупе с длинным опровержением и зловещим примечанием, что в 1959 г. она потеряла работу): «Я недавно читала в газетах о том, как некоторые люди порвали с религией… Почему я не могу написать и напечатать в газете о том, как я пришла к христианству, как и по каким мотивам я стала верить в Бога?» Она захотела получить «ответ на такие вопросы: отчего бывают человеческие страдания? Зачем живет человек? В чем заключается истинное счастье?.. Основательно проработала философию Индии, проработала евангелие и т. д. И в результате всего этого пришла к заключению, что только религия, вера в Христа дает смысл человеческой жизни, дает тепло и свет человеческой душе. Наука же должна подчиниться религии, потому что, не сдерживаясь религией, она сейчас работает на разрушение…»[1582]
По этим фрагментарным выдержкам из письма учительницы невозможно сказать, к какой церкви или секте она присоединилась, если присоединилась вообще, как невозможно было точно определить церковную принадлежность тридцати двух русских христиан, которые в начале 1963 г. тщетно просили убежища в американском посольстве. Ясно только, что в России по-прежнему много анонимных христиан и что искренне верующие семьи часто сталкиваются с самой жестокой из всех форм гонений: у них насильственно отбирают детей.
Может статься, в брожениях эпохи Хрущева отражено всего лишь преходящее беспокойство периферийной интеллигенции — обреченное, если не вовсе бессмысленное. Молодые бунтари определенно куда отчетливее сознавали, что отвергают, нежели что одобряют. Более того, они не были революционерами в каком-либо явном политическом смысле. Умение режима оберегать свою однопартийную систему и уничтожать оппозицию придавало оттенок нереальности всякому помыслу об альтернативных формах политической и социальной организации. Так или иначе, молодое поколение в СССР — не в пример молодежи других коммунистических стран, скажем Венгрии и Польши, — вообще не связывало коммунизм с иностранным господством, но видело в нем неотъемлемую часть собственной истории. Коммунизм теперь выглядел менее одиозно, ведь именно под его знаменем Россия заняла небывалое для нее место могущественной мировой державы. А поскольку государство, имея возможность использовать и оплачивать таланты, всеми материальными средствами старалось привлечь одаренную молодежь в управленческие структуры, культурные брожения казались иным наблюдателям не более чем мимолетным недомоганием богемного толка где-то на периферии растущего индустриального общества.
Однако у советского руководства эти брожения умов вызвали глубокую озабоченность. Огромное количество времени и энергии, затраченное на художественные и интеллектуальные проблемы Хрущевым, человеком малоинтеллигентным и абсолютно не проявлявшим ко всему этому личного интереса, безусловно — по крайней мере, отчасти — объясняется неизбывной тревогой подозрительных автократов за сохранность своей власти. Советские лидеры не забыли, сколь важную роль интеллигенция сыграла в становлении их собственного, уже немолодого теперь революционного движения. Сознавали они и то, что ленинские правительства — сколь угодно «либеральные» или «десталинизированные» — целиком и полностью держатся на идеологии. Основа политической власти в тоталитарном государстве не регулярные всенародные выборы, какие имеют место при демократии, и не освященная религией наследственная преемственность традиционных форм авторитарного господства. Власть коммунистов в СССР по-прежнему зиждется на метафизических притязаниях их партии быть авангардом исторического процесса на переходе «от царства необходимости к царству свободы». Хотя СССР мог бы отбросить свои идеологические притязания и стать просто сильным государством с неавторитарной, плюралистической культурой, нет оснований (как показывает история нацистской Германии) предполагать, что такое развитие с необходимостью следует из роста образованности и благосостояния.
И все-таки минимум четыре момента позволяют сделать вывод, что брожения послестаЛинской эпохи скорее начало какого-то нового этапа, нежели завершенный или проходной эпизод. Во-первых, само число людей, охваченных этими брожениями. Прежние идеологические волнения в российской истории неизменно происходили в рамках небольших ограниченных групп, которые в относительной изоляции от населения в целом бурно обсуждали те или иные вопросы. Куда больше людей читали шовинистический «Русский вестник» Каткова, чем «Отечественные записки» Михайловского, сентиментальную иллюстрированную «Ниву», чем «Мир искусства». В СССР 60-х гг., однако, идеологические споры пелись на страницах куда более широко распространенных журналов — и среди грамотного населения, которое до некоторой степени наторело в идеологической терминологии. Монополия коммунистической партии на органы информации, казалось, утрачивала свое значение, и это в период, когда конкретные установки по многим вопросам оставались либо неясными, либо невыполненными.
Разоблачив в 1956 г. Сталина, Хрущев открыл ящик Пандоры, полный серьезнейших вопросов о том, где и как все пошло не так. Раздраженное объяснение ad hominem[Апеллируя к человеку (лат.), т. е. к личным свойствам того, о ком идет речь, а не к его разуму.], что все беды начались в середине 30-х гг. с «культа личности» Сталина и с инициированных Сталиным чисток партийных рядов, не давало ответа на вопрос и даже не обеспечивало того «глубокого марксистского анализа», какого искали верные ленинцы. Одни, по-видимому, считают роковым моментом насильственную коллективизацию, другие винят во всем совокупную ленинскую концепцию тоталитарной партии и соединение двух революций в одну. Вновь ожила «эзоповская традиция» обсуждать политические проблемы, которые нельзя упоминать прямо, в терминах давней истории; и огромный рост числа студентов-историков в конце 50-х — начале 60-х гг. в конечном счете явно свидетельствует о живом интересе молодежи к общественным проблемам.
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Икона и Топор"
Книги похожие на "Икона и Топор" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Джеймс Биллингтон - Икона и Топор"
Отзывы читателей о книге "Икона и Топор", комментарии и мнения людей о произведении.