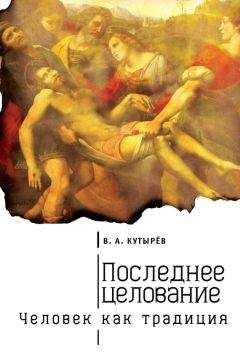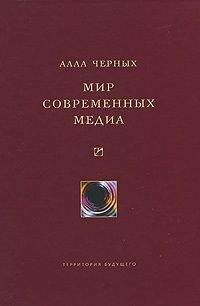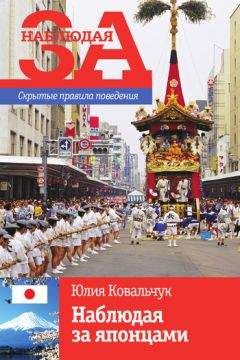Александр Луцкий - Духовная традиция и общественная мысль в Японии XX века

Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.
Описание книги "Духовная традиция и общественная мысль в Японии XX века"
Описание и краткое содержание "Духовная традиция и общественная мысль в Японии XX века" читать бесплатно онлайн.
Книга посвящена актуальным проблемам традиционной и современной духовной жизни Японии. Авторы рассматривают становление теоретической эстетики Японии, прошедшей путь от традиции к философии в XX в., интерпретации современными японскими философами истории возникновения категорий японской эстетики, современные этические концепции, особенности японской культуры. В книге анализируются работы современных японских философов-эстетиков, своеобразие дальневосточного эстетического знания, исследуется проблема синестезии в искусстве, освящается актуальная в японской эстетике XX в. тема алгоритмических тенденций и высоких технологий в информационном обществе.
Очевидно, таким образом, что буддийская и конфуцианская традиция взаимно дополняли друг друга в сфере этических идеалов, способствовали образованию в моральном сознании японцев ситуации «подвижного равновесия», когда, казалось бы, несовместимые, противоречащие с точки зрения обычной логики идеалы на протяжении веков прекрасно уживались вместе. При этом, конечно же, один из них мог выступать формально лидирующим, а другой – находиться в оппозиции.
Буддизм и конфуцианство неслучайно утвердились в духовной жизни Японии. Их идейные установки соответствовали действительным тенденциям формирования общественного сознания. И хотя общественные противоречия порождали своеобразный «эклектизм» морального сознания, оно тем не менее выступало как целостное, отвечая потребностям складывавшегося общества. И буддизм, и конфуцианство оказались, по существу, готовым концептуальным материалом для обоснования моральной надстройки японского общества.
Искусственная консервация социальных отношений в феодальной Японии, отгородившейся от внешнего мира, влекла за собой закрепление соответствующих нравственных представлений. Следует подчеркнуть, что эти представления являлись не просто сводом отвлечённых, декларативных норм и рассуждений. Глубоко укоренившись в сознании каждого японца, они выступали практическими регуляторами повседневного поведения людей. Данный момент обусловил специфику относительной самостоятельности духовной жизни в Японии, её кажущуюся независимость от качественных сдвигов, происходивших в системе общественных отношений.
Японское моральное сознание и проблема «типа мышления»
Относительная самостоятельность духовной жизни в Японии послужила поводом для заявлений об уникальности и извечности японской духовной культуры, об особых «константах» морального сознания и «типе мышления» японцев. Именно из «типа мышления» выводятся якобы абсолютно не меняющиеся установки сознания, определяющие «постоянство поведения» японского народа, особую японскую мораль.
Понятие «тип мышления» связано с постулированием «иероглифической» японской цивилизации, вместе с китайской кардинально отличающейся от всех неиероглифических культур. Это ярче всего проявляется в само́й иероглифической письменности, в её так называемой грамматической неопределённости, отсутствии чёткости в обозначении единственного и множественного числа и т. д. Кроме того, в японском языке существует много иероглифов, имеющих до двадцати значений, различимых лишь в контексте. Благодаря своей образной конкретности иероглиф вызывает в сознании скорее пучок ассоциаций, нежели строгое понятие. Подобная языковая «расплывчатость» препятствует развитию дискурсивного мышления, что сказалось на японской мыслительной традиции, и в частности, на моральных теориях.
На наш взгляд, следует различать проблему укорененности иероглифики в национальной культуре Китая и Японии и собственно проблему «типа мышления». Показательно, что до сих пор ни один из сторонников «типа мышления» не дал достаточно строгого научного определения этого понятия.
Современные философы Накамура Хадзимэ и Кисимото Хидэо считают, например, что японский «тип мышления» обнаруживает себя именно в японском языке, который «выявляет человеческие переживания в неаналитической форме».[87] Ни тот, ни другой исследователь не предлагают дефиниции «типа мышления», а вводят его понятие неявно, как производное от уровня использования формально-логических законов и принципов в мыслительной традиции.[88] В Японии, констатируют они, система формальной логики или абстрактных понятий почти не разрабатывалась, что свидетельствует о слабости японцев в области спекулятивного мышления и нашло отражение в этических учениях, созданных японскими учёными.
Однако язык не единственный определяющий фактор в развитии мышления или этических представлений. Более того, происходящее с необходимостью развитие мышления приводит к ломке языковых стереотипов. Сегодня японцы вынуждены изменять традиционную структуру своего языка, а опыт XX столетия демонстрирует успехи Японии в разработке новейших отраслей науки, что было бы невозможно без соблюдения законов логики.
Интересны взгляды ещё одного из приверженцев японского «типа мышления», видного теоретика и популяризатора японского буддизма Судзуки Дайсэцу. По его мнению, специфической чертой «типа мышления» и поведения японцев, японской морали является интуитивное постижение бытия, буддийское по своему характеру. «Буддийская философия, – пишет он, – это система саморазвёртывающейся и самодифференцирующейся праджня (интуиции)».[89] Она определяет особую «буддийскую моральность» японского народа. Праджня обладает не только гносеологической, но и онтологической характеристикой. Будучи единосущной с Абсолютом, лежащим в основе мира, праджня выступает высшим родом познания, преодолевающим дихотомию субъект – объект. Именно факт невозможности разделения единой реальности на субъект и объект без привлечения понятия Абсолюта Судзуки считает аргументом в пользу сверхразумности праджня, «трансцендентной всем видам суждения».[90]
Знаки японской иероглифической письменности, неудобные для передачи дискурсивного мышления, буддийский философ оценивает как удобный инструмент для праджня, поскольку каждый иероглиф «пробуждает конкретные представления, полные недифференцированных импликаций, и является наиболее совершенной формой выражения интуитивно-образного типа мышления».[91] Судзуки считает, что буддистов всего мира объединяют особенные мораль (совпадающая с мировым Законом) и «интуитивно-образный тип мышления». В связи с этим уместно вспомнить слова Гегеля, писавшего что «конкретное заимствуется из обычного представления, которое не может содержать в себе логических принципов, работающих именно в теоретическом познании и отнюдь не лежащих в основе интуитивного мышления».[92] Логические принципы используются мыслящим субъектом сознательно, а не интуитивно. Логическое мышление подразумевает усилие, постоянное внимание к соблюдению логических законов; оно вскрывает противоречивость образного восприятия действительности, его непоследовательность и ограниченность путём анализа внутренней связи явлений. Ориентируясь лишь на интуитивные критерии, мышление утрачивает свой действительный объект познания, заменяет его неким Абсолютом и становится субъективным, иллюзорным по характеру.
Значение, придававшееся японцами-буддистами интуитивному познанию, которое противопоставлялось дискурсивному мышлению (как «неистинному», неспособному постичь буддийское единство мира, разлагающему всё на части и расчленяющему субъект-объектное единство буддийского бытия на «мёртвые» противоположности) вполне объяснимо. Японский язык с его иероглификой, естественно, препятствовал возникновению системы формальной логики и даже её усвоению японскими мыслителями, являлся тормозом для распространения абстрактного мышления в Японии, общественное сознание которой веками находилось в русле влияния буддийской традиции. Это наложило отпечаток и на моральные представления японцев.
Интуитивное познание, а точнее своеобразный «нравственный инстинкт», интуитивное воспроизведение индивидами моральных норм – неотъемлемое и необходимое качество всякого общественного нравственного сознания. Этим, в частности, мораль как особая форма общественного сознания отличается, скажем, от науки или даже философии. «Сама мораль есть синтез… чувственного и рационального, конкретного и абстрактного. Это такое чувственное, где есть своя логика, не менее «железная», чем формальная. Это такое рациональное, которое само оперирует эмоционально-волевыми ансамблями. Интуиция здесь выступает в единстве чувственного и рационального моментов, как способ ускоренной, непосредственной ориентации в мире социальных ценностей».[93] В этом плане следует признать, что претензии японских исследователей, подчёркивающих достоинства моральных установок японского народа, не лишены оснований: «нравственный инстинкт» японцев на самом деле необыкновенно силён, впечатляет их способность угадать и прочувствовать тонкости самой деликатной ситуации. Это качество может составить гордость японской нации, её действительно характеристическую черту в мировом сообществе. Но отсюда совсем не следует, что японцы обладают каким-то особым моральным «типом мышления», неизменно сохранявшимся во все времена. В ходе становления и развития капитализма в Японии там вступили в силу и общие закономерности моральной регуляции. Поэтому японская общественная мораль, несмотря на попытки националистически настроенных идеологов представить её вечной, неизменной, одинаковой для всех японцев и независимой от социальных условий, претерпела и продолжает претерпевать значительные изменения.
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Духовная традиция и общественная мысль в Японии XX века"
Книги похожие на "Духовная традиция и общественная мысль в Японии XX века" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Александр Луцкий - Духовная традиция и общественная мысль в Японии XX века"
Отзывы читателей о книге "Духовная традиция и общественная мысль в Японии XX века", комментарии и мнения людей о произведении.