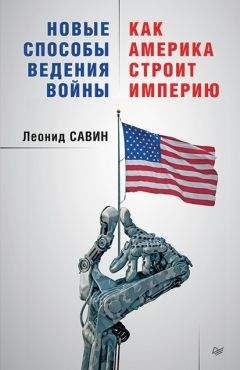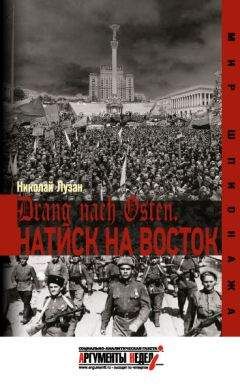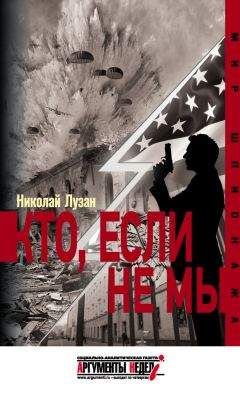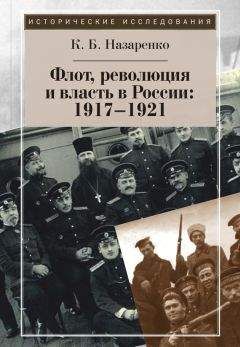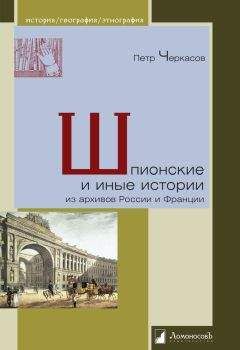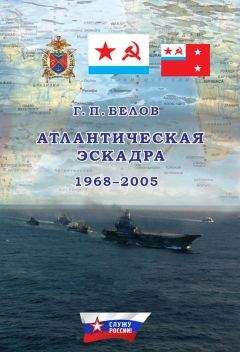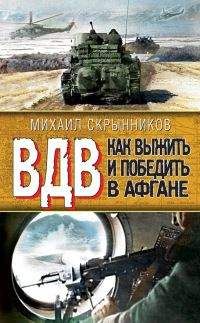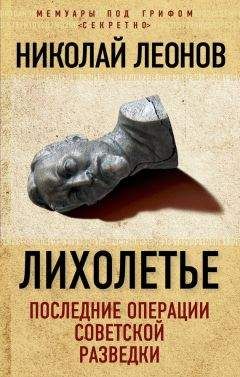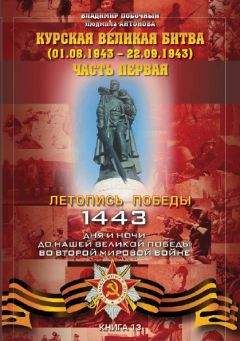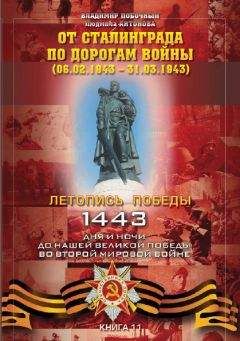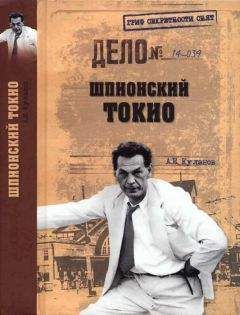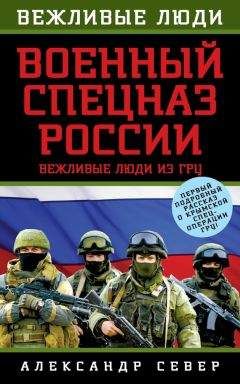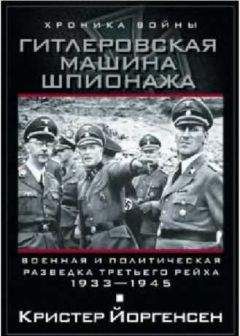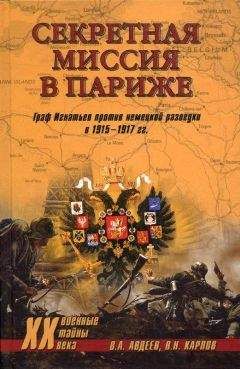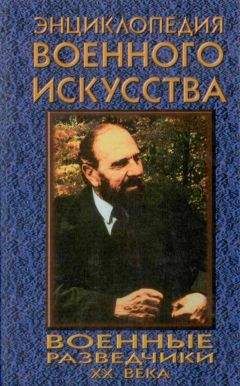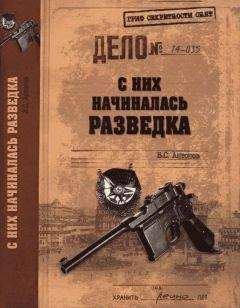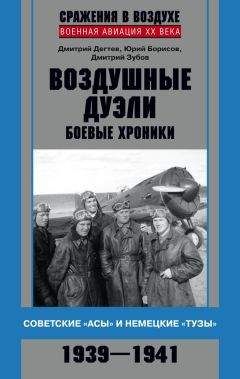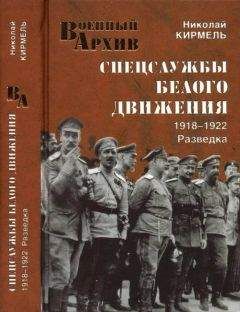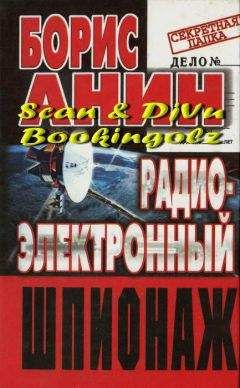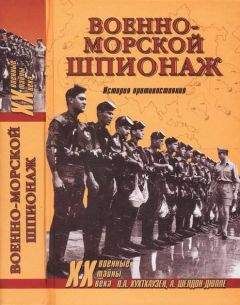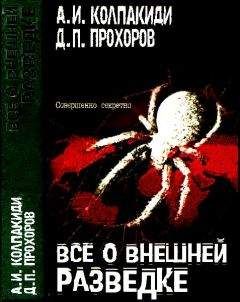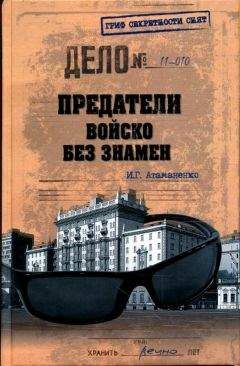Петр Стефанович - Бояре, отроки, дружины. Военно-политическая элита Руси в X–XI веках
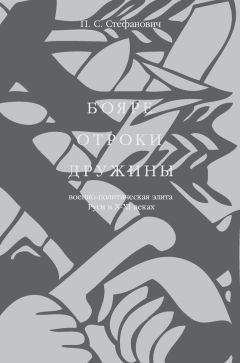
Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.
Описание книги "Бояре, отроки, дружины. Военно-политическая элита Руси в X–XI веках"
Описание и краткое содержание "Бояре, отроки, дружины. Военно-политическая элита Руси в X–XI веках" читать бесплатно онлайн.
Задача исследования, представленного в книге, – определить формы и состав элиты древнерусского общества в X–XI вв., особенно той её части, которая участвовала в принятии важнейших военных и политических. Анализируются данные древнейшего летописания, договоров Руси и Византии X в., «Русской Правды» и других источников в широкой сравнительно-исторической перспективе. Подробно описываются группы, которые в XI в. составляли важнейшие элементы элиты Руси, – знать (бояре) и военные слуги князей (отроки или гридь).
Стоит заметить, что в западной археологической литературе господствует весьма и весьма осторожное отношение к определению тех или иных возможных следов дружины (как и вообще политико-правовых институтов). В частности, вопрос об отражении социальных различий и институтов типа дружины в археологических материалах особенно остро встал в немецкой историографии, когда в середине XX в. пересмотр традиционного тезиса о «демократическом» устройстве древнегерманского общества совпал с заметным ростом масштабов археологических разысканий и развитием их методов и техник. Сегодня ответ на этот вопрос более чем сдержанный. «Археологические возможности увидеть дружины ограничены», – утверждает Вальтер Поль[168]. Показательно как отражение представлений, принятых в западной литературе, что С. Франклин и Дж. Шепард, обобщая археологические данные X в., не употребляют слова «дружина», «дружинный» и говорят в обтекаемых формулировках об элите, военных занятиях и т. п.[169].
Известный немецкий археолог Хайко Штойер высказывается по этому поводу так: разбирая вопрос о дружине, «со стороны археолога лучше либо вообще воздержаться от каких-либо высказываний, либо надо допускать относительно много указаний на возможное существование дружины, каждый раз со всевозможными разъяснениями и оговорками»[170]. В специальной работе, в которой Штойер попытался обобщить возможные критерии идентификации дружинных объединений по центральноевропейским материалам с эпохи бронзового века до рубежа I–II тысячелетий н. э.[171], он заключает, что хотя имущественное расслоение в той или иной степени просматривается практически всегда, принципиально невозможно определить, о какого рода «знати» идёт речь (соответствующее немецкое слово Adel всегда употребляется им в кавычках). Археологические материалы не дают возможности выявить ни институциональные формы социальной жизни, ни правовое положение людей, в частности свободный/несвободный статус, ни формы зависимости населения хозяйственных комплексов. Штойер выделяет несколько видов археологических объектов, которые свидетельствуют о группах воинов и/или группах слуг или клиентов вокруг одного господина или вождя и которые могут рассматриваться как свидетельство дружины (так называемые «кладбища воинов» – Männerfriedhöfe, специально маркированные предметы вооружения, культа и жертвоприношений, роскоши и др.), но возможности такой интерпретации всегда ограничены, а заключения могут быть легко поставлены под сомнение[172].
Итак, в позднесоветской историографии наметилась существенно иная трактовка древнерусской дружины по сравнению с концепцией Грекова-Юшкова. Логическое завершение этот пересмотр получил в работах А. А. Горского. Историк использует понятие «дружина» фактически так же, как и М. Б. Свердлов и многие другие историки второй половины XX – начала XXI в. – очень широко и применительно к славянским «догосударственным общностям» VI–VIII вв., и для характеристики элиты древнерусского государства всего домонгольского периода: «дружина представляла собой организацию военно-служилой знати на последнем этапе родоплеменного строя и в раннефеодальном обществе»[173].
«Разложение» древнерусской дружины вследствие её «оседания», то есть развития землевладения «дружинников», Горский относит ко второй половине XII в. За терминологией– то есть применением понятия дружины и к догосударственному периоду, и к древнерусскому домонгольскому – стоит принципиальный тезис о преемственности в самом институте, хотя эта преемственность понимается Свердловым и Горским по-разному Для Свердлова, отстаивающего концепцию «неземельных феодов», важно, что уже в славянской дружине были «генетически "запрограммированы" феодальные отношения», лишь развившиеся в Древней Руси в Х-XII вв.[174] Горский же подчёркивает «государственно-служебное» начало в институте дружины, которое сначала (на «родоплеменном» этапе) служило мотором государствообразования, а позднее, уже в рамках древнерусского государства, сплачивало знать вокруг центральной княжеской власти[175].
С акцентом на «государственно-служебном» характере дружины связан важный для Горского тезис, что в Древней Руси не было никакой другой знати, кроме «служилой», объединённой в княжескую дружину. Если в более ранней работе он ещё допускал значительную роль знати у славянских народов VI–VIII вв. и не исключал «существование родоплеменной знати в X в. в восточнославянских обществах» (хотя её роль и тогда ему представлялась «несравненно менее значительной, чем знати служилой»), то в работе 2004 г. он пришёл к выводу, что «племенной знати» не было уже и в «Славиниях» VI–VIII вв., а применительно к Древней Руси ни о какой «местной» знати речи быть не может[176]. Князья и их «служилая» знать – вот, собственно, и вся элита как славянских «племён», так и древнерусского государства; дружина– организация этой знати. «В целом институт дружины в Киевской Руси предстает как возглавляемая князем корпорация, в которую была объединена вся светская часть господствующего слоя», – пишет историк[177].
Вне зависимости от определения того, что надо понимать под «дружиной», о которой пишут русские летописцы (об этом пойдёт речь в главе II), тезис о преемственности этой последней с дружинами, существование которых предполагается у славянских народов, упоминаемых в византийских и латинских источниках VI–IX вв., является самым слабым звеном концепции, представленной в трудах М. Б. Свердлова и А. А. Горского. Неважно, идёт ли речь о «запрограммированности» феодальных отношений или «служилом» характере отношений князя и знати, всё-таки очень трудно, соглашаясь с авторами, признать, например, что в социально-культурном облике киевского боярина XII в. есть хоть что-то общее с обликом какого-нибудь славянина, терроризировавшего окраины Византийской империи в VII в. Логика рассуждений А. Е. Преснякова и Б. Д. Грекова с С. В. Юшковым, которые разделяли древнюю «дружину», понятую как «домашний союз», и «влиятельный класс» боярства, явно и бесспорно распознаваемый в древнерусских источниках, представляется предпочтительнее.
Разумеется, у славян, в том числе восточных в VIII–XI вв., был какой-то слой людей, выдающихся в имущественном плане, а может быть и в плане власти и авторитета, велика была роль войны как фактора социально-имущественной мобильности, – но признавать у них какой-то конкретный «институт дружины», да ещё определённым образом связанный с той «дружиной», о какой говорят нам русские летописи XII в., – это явная схематизация. Не имея нашего «славянского Тацита», мы в ещё большей мере, чем историки германских gentes, обречены на то, чтобы говорить не о какой-то одной определённой дружине («die Gefolgschaft»), а более размыто о «военно-дружинных объединениях» и т. п. (ср. «gefolgschaftlich organisierte Verbände» в приведённых выше высказываниях В. Поля и других немецких учёных).
В главе IV будет ещё подробно обсуждаться дискуссия о «земских» и «служилых боярах». Здесь пока только отмечу что крайняя позиция, занятая в этом вопросе А. А. Горским, даже с чисто теоретической точки зрения кажется неоправданной. Признание «служилого» характера за социальной верхушкой славянских народов-«племён» и русью Х-XII вв. подразумевает, что в этих обществах не было никаких других каналов и механизмов социальной мобильности кроме службы вождю/правителю. Однако, как показывает исторический опыт, такая ситуация может возникать только в условиях развитой и даже гипертрофированной централизации, обеспечиваемой жёсткими государственно-бюрократическими механизмами. Тогда социальная иерархия совпадает с иерархией должностей в государственном аппарате, а продвижение по иерархической лестнице возможно только при занятости в этом аппарате. В советском обществе такой порядок, допустим, преобладал[178], но невозможно представить себе такую ситуацию применительно к архаическим обществам раннего Средневековья, где монополия центральной власти едва начала формироваться.
В литературе уже неоднократно указывалось и на конкретные данные источников, свидетельствующие, что в ранних славянских государствах была некая элита, которая могла состоять в неких отношениях с правителями, но вовсе необязательно «служебных» или «служилых», и которая, возможно, уходила корнями в догосударственные-«племенные» общности. Обстоятельное сравнительно-историческое исследование П. В. Лукина показало, что для обозначения этой элиты в разных областях расселения славян используется «возрастная» терминология (старцы, старейшие и т. п.)[179]. «Старцы», «старосты», «нарочитые мужи» и т. п. обозначения, которые встречаются в древнерусских источниках, при всей их неопределённости и даже, возможно, «книжно-литературном» происхождении (на чём делает акцент Горский) не были бессодержательны и в некоторых случаях указывали на эту элиту (ср. далее с. 215–217,489-491). В своё время об этом совершенно справедливо писал X. Ловмяньский: можно согласиться, что термин «"старцы градские" был литературного происхождения, из чего не вытекает, что он не отражал действительные атрибуты этой социальной категории»[180].
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Бояре, отроки, дружины. Военно-политическая элита Руси в X–XI веках"
Книги похожие на "Бояре, отроки, дружины. Военно-политическая элита Руси в X–XI веках" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Петр Стефанович - Бояре, отроки, дружины. Военно-политическая элита Руси в X–XI веках"
Отзывы читателей о книге "Бояре, отроки, дружины. Военно-политическая элита Руси в X–XI веках", комментарии и мнения людей о произведении.