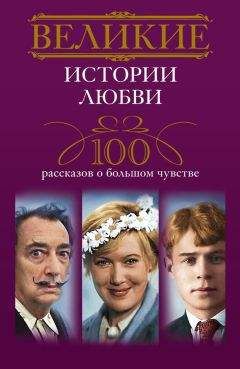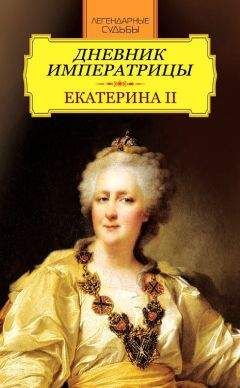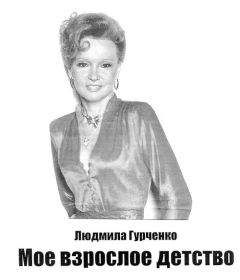Екатерина Старикова - В наших переулках. Биографические записи
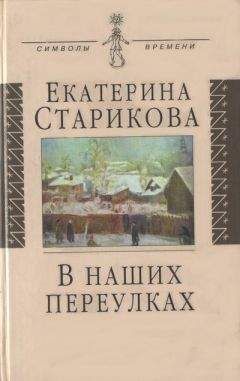
Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "В наших переулках. Биографические записи"
Описание и краткое содержание "В наших переулках. Биографические записи" читать бесплатно онлайн.
Книга профессионального литератора Е. В. Стариковой представляет собой воспоминания московской интеллигентки о своих родителях и многочисленных родственниках, о детстве и юности, проведенных и в Москве, и в деревне — на родине ее отца, — и за городом, на природе; причем все подробности взаимоотношений людей и быта даны на историческом фоне, эпоха ощущается в каждом повороте событий, в каждом слове повествования.
Наибольшую ценность этим воспоминаниям придает несомненный писательский дар Стариковой. Читатель получает прекрасный образец настоящей русской прозы; книга — от первой до последней страницы — читается буквально на одном дыхании.
Не пожалела мама (жалеть она вообще не умела) и наших с Алешей крестильных золотых крестов. Крестили нас с ним по дворянскому и интеллигентскому обычаю не в церкви, а в квартире Краевских в Серебряном переулке. Моим крестным отцом был дедушка Михаил Николаевич, а крестной матерью — тетя Леля (мамина сестра Елена Михайловна), Алешиными же — брат дедушки Александр Николаевич и его жена Марья Николаевна. Они и одарили нас своими собственными крестами, старинными, наследственными. Прежде чем отнести эти кресты в спасительный и всепожирающий торгсин, мама, вынув их из дальнего ящика секретера, показала нам: Алешин — тяжелый, массивный, мужской, дедовский, и мой — крошечный, ажурный, «дамский». Не без веселого цинизма родители сетовали на изысканность вкуса дворянских предков, гнавшихся за изяществом и при крещении своих дочерей. Мой крестик почти ничего не стоил в торгсине, там «работа», как известно, в расчет не принималась, все скупалось на вес, все ювелирные художества и изыски переплавлялись без различия (или иногда тайно перекупались? Наверное, не без этого!). Принимая из рук мамы одну из первых крошечных жертв нашей семьи молоху индустриализации, брошку парижской модницы середины XIX века, маминой прапрабабушки, — золотое кольцо с сердоликовыми слезками, покрытыми узорными золотыми насечками, — кассирша торгсина с сожалением переспросила: «Ломать?», намекая, что золота тут кот наплакал, а старинная работа — диво. «Ломать», — твердо ответила мама, видя перед собой три детских лица, бледненьких, малокровных, худеньких: вкусы прабабушек не вызывали тогда умиления, это теперь, через сорок с лишним лет мама вдруг стала вспоминать, а куда же делись выломанные из брошки сердоликовые слезки? И не вспомнила. Бог с ними!
Однако для предстоящего путешествия в деревню в ход пошли не ложки и не кресты, а «золотые» — две или три золотых пятерки с профилем Николая II. Откуда они у нас взялись? Ума не приложу! Хранить «на черный день» мои родители ничего не могли, за это ручаюсь. Подозреваю, что «золотые» прибыли к нам из той самой деревни, куда теперь предстояло вести драгоценный сахар: деревня еще припрятывала золотишко, держалась за последние крохи.
Запомнила же я эти «золотые» потому, что сама стояла в очереди в торгсин, в теперешний Смоленский гастроном. Дело в том, что «в руки» давали только пять килограммов сахара — даже за золото, — а нам нужно было 20. Вот и стояли на улице, около Карманицкого переулка, все вместе: мама, папа, я и новая наша няня Фрося. Это была моя первая «очередь». Сколько их будет! А запомнилась эта, первая. Все-таки щадили меня родители, доставалось от маминой резкости часто, а воспитывали «интеллигентно»: восемь лет, а стою в очереди в первый раз. И как же это тогда показалось мне весело! Майское яркое утро, множество народу, и мы все вместе. Мне даже почему-то кажется, что и соседи наши Еремеевы здесь же. Ну чем не праздник? И доверенный мне драгоценный «золотой», зажатый в моей вспотевшей от старания руке («Смотри, не потеряй!»), и сознание важности, целевой направленности предприятия («Мы едем в Волково!»), и маленькие кулечки с ландрином, которые доставались мне в виде награды — принудительная «сдача» при каждых пяти килограммах сахара (мне казалось это очень остроумным: кто бы добровольно стал покупать ландрин на золото?).
Сейчас я сделаю ужасное признание, вернее, предположение, за которое меня могли бы многие проклясть. И все-таки скажу: при всей мучительности коллективное стояние в очереди в 30-е годы иногда носило характер праздничности: оно давало людям иллюзию общего дела, общего интереса, общего преодоления трудностей. О, я знаю, сама помню и мучительную усталость в ногах, досаду на пропавшее время, и отвратительные истерические скандалы. И в память этого исторического опыта никогда не встану в очередь за крепдешином, лаковыми туфлями, кримпленом и прочим ассортиментом быстротекущей моды. Но когда это было самое необходимое, перед чем все равны, когда это было сурово, как сама жизнь, что-то грело и в этой ужасной общности. Как существование в коммунальной квартире. Нет ничего более противоестественного, но что-то уходит из жизни человека вместе с этим ужасом: принудительная, но реальная и неотложная причастность к судьбам чужих людей — хочешь не хочешь, ты вынужден жить их интересами, с ними считаться, их судьба дополняет твою. Я понимаю, что меня могут, меня должны разорвать на части за эти слова. И все-таки повторяю вновь: что-то в том адском эксперименте заключалось и «греющее». Или только дети могли так воспринимать уродливые формы, начальную данность их бытия? Другого ведь не было дано!
Приехав несколько лет назад в только что отстроенный пансионат Академии наук, в первый день я с интересом рассматривала это красно-кирпичное модерное здание со стороны леса: рационально, удобно и даже красиво. И в то же время нечто пугающее увиделось мне в этой экономически строго отмеренной комфортабельности. Впечатление подтвердилось всем бытом заведения: малогабаритность номеров и богадельническая стандартность еды компенсировались обширностью беломраморного вестибюля и пышной яркостью хрустальных люстр в столовой, а многонаселенность здания — предельной близостью природы, хотя и очень узкой ее полосой, хотя и покалеченной недавней стройкой, хотя и смыкающейся с безобразными современными окраинами некогда дивного Звенигорода, но все-таки — еще природой. Однако, глядя со стороны леса на окна и лоджии хитроумного дома пансионата, я с тоской и страхом думала о человеческом одиночестве, наступающем тем решительней и тотальней, чем больше на земле становится людей и чем ускореннее распадается семья как сложное органическое целое, деспотически, но безошибочно предохраняющая человека от одиночества. Именно эти маленькие лоджии, похожие на могилы, тщательно и обдуманно отделенные друг от друга и рационально направленные на общение человека с природой, навели меня на грустные мысли. Ты не можешь действительно остаться наедине с природой и ты утешаешься и успокаиваешь свои нервы самоизоляцией: ты все слышишь, но не все видишь, и ты делаешь вид, что не знаешь о многосотовом улье, частью которого ты являешься. И вспомнились старинные широкие балконы, громадные дубовые столы, вспомнились обширные крестьянские дома родного Ландеха — то, что строилось и делалось в расчете на объединение и реальную общность. Иногда принудительную, почти всегда деспотическую, часто — обременительную для личности. И все-таки… все-таки делавшую людей больше людьми.
Наши родители не знали ни того, ни другого — ни современного, скупо отмеренного комфорта, иногда балующего нас, постаревших их детей, ни патриархального уюта сплоченного семейного существования. Их судьба целиком пала на «промежуток», если смотреть на историю с точки зрения частного существования, и на высокие «роковые» мгновения, растянувшиеся на десятилетия, если смотреть на жизнь с общеисторической точки зрения. На этих листках я пытаюсь схватить некоторые приметы частной жизни эпохи «роковых мгновений», бывшие доступными детскому восприятию: они так обделены памятью испуганных, осторожных и спешащих современников. Я не тщу себя надеждой, что многое восполню этими записями, делаемыми «в свободное от работы время». Но все-таки… Пусть хоть щепочки вещественного бытия этих длинных в масштабе индивидуального существования «промежутков» будут сохранены нашей памятью ради тех, кого мы любили. Увы, я не могу показать быт ушедших лет глазами отца. Я могу только кое-что рассказать о том, что окружало его, рядового и среднего человека первой половины XX века, того, кого чудом пощадили война и тюрьма, но который ушел из жизни безгласно. Конечно, взрослый человек с опытом прожитых лет, он видел московский быт 30-х годов иначе. Но что же остается? Что же делать? Я буду продолжать.
ЛЕТО В ВОЛКОВЕ
Итак, в начале июня 1932 года мы едем в Волково. Все как прежде перед нашими ландехскими отъездами, и все по-другому.
Как прежде — тюки с постелями: они будут расстилаться и на жестких вагонных полках, и на телеге, да и в Волкове пригодятся; громадная плетеная корзина с висячим замочком на крышке, а к ней приторочен чайник для кипятка; красноватый фибровый чемодан — папин, сибирский, «довоенный», непробиваемый, единственный в нашей семье; суета, волнения, свертки с едой; запоздалый обед или ранний ужин, не лезущий в рот перед отъездом, — мы потребуем еды, как только рассядемся в вагоне.
Все по-другому, потому что мы едем на Курский вокзал не на извозчике (они почти исчезли), а на трамвае, на «букашке», что останавливается возле нас в начале Новинского бульвара; потому что необычен состав путешественников. Мама остается в Москве, она же работает. Едет папа, нас трое и нянька Фрося, двадцатилетняя, пышная, рыжеволосая, она прослужила у нас зиму, а осенью собирается замуж и вернется в свою рязанскую деревню; по-другому, потому что необычен и наш маршрут — сначала, как всегда, поездом ночь до Вязников, но там нас не будет ждать, как когда-то, лошадь, там мы должны сесть на пароход и подняться вверх по Клязьме. Мы с Алешей в восторге, но папины скулы подозрительно вздуты. Я уже научилась вглядываться в его лицо и знаю, что эти обострившиеся скулы на худом лице обозначают тревогу.
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "В наших переулках. Биографические записи"
Книги похожие на "В наших переулках. Биографические записи" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Екатерина Старикова - В наших переулках. Биографические записи"
Отзывы читателей о книге "В наших переулках. Биографические записи", комментарии и мнения людей о произведении.