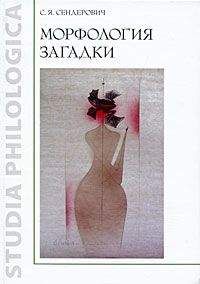Анна Разувалова - Писатели-«деревенщики»: литература и консервативная идеология 1970-х годов

Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.
Описание книги "Писатели-«деревенщики»: литература и консервативная идеология 1970-х годов"
Описание и краткое содержание "Писатели-«деревенщики»: литература и консервативная идеология 1970-х годов" читать бесплатно онлайн.
Исследование посвящено особенностям «деревенской прозы» 1960-1980-х годов – произведениям и идеям, своеобразно выразившим консервативные культурные и социальные ценности. Творчество Ф. Абрамова, В. Солоухина, В. Шукшина, В. Астафьева, В. Белова, В. Распутина и др. рассматривается в контексте «неопочвенничества», развивавшего потенции, заложенные в позднесталинской государственной идеологии. В центре внимания – мотивы и обстоятельства, оказавшие влияние на структуру и риторику самосознания писателей-«деревенщиков», темы внутреннего диссидентства и реакционности, «экологии природы и духа», памяти и наследования, судьбы культурно-географической периферии, положения русских и русской культуры в советском государстве.
Поворот к классике и традиции в «долгие 1970-е» сопровождался полномасштабной апологией реализма. Еще с начала 1960-х годов реалистическому искусству оказывалась долговременная пропагандистская и институциональная поддержка, но, даже несмотря на это, его исключительные права приходилось отстаивать – причина не только в конкуренции с литературными явлениями модернистского генезиса[731], но в глобальной трансформации самого реализма. Публикация книги Роже Гароди «Реализм без берегов» (1966) и официальный отпор ее автору-«ренегату», словно сходящие с конвейера работы официозных литературоведов[732] о соцреализме, состоявшие по большей части из анализа произведений Маяковского, Шолохова и опровержения «домыслов» противников главного метода советской литературы, свидетельствовали, что при помощи термина «реализм» все сложнее было схватить многообразие современных художественных практик, номинально развивавшихся в реалистическом русле. Реалистическая система претерпевала процессы внутренней дифференциации и требовала спецификации языка описания. Такая спецификация в критике и литературоведении «долгих 1970-х» шла, но осторожно, в границах дозволенного, без решительного отказа от термина «социалистический реализм». «Апофеозом расширения границ», по наблюдениям Марка Липовецкого и Михаила Берга, стала книга Дмитрия Маркова «Проблемы теории социалистического реализма» (1975), в которой автор провозгласил соцреализм «исторически открытой системой художественных форм»[733] и тем самым, с поощрения высших политических инстанций, «“впустил” в соцреализм эстетику модернизма»[734]. Тем не менее, в сложившуюся практику использования термина «реализм», маркировавшего круг идеологически и эстетически приемлемых явлений, каких бы то ни было уточнений (кроме традиционных «социалистический», «критический», а также спорадических упоминаний о возможном дозированном присутствии мифологических элементов) внесено не было. Диффузный в смысловом отношении термин был даже удобен возможностью, актуализируя разные смысловые ряды, вписывать его в различные дискурсивные образования и не нарушать при этом сложившихся конвенций.
Советская критика, особенно ее национально-консервативное крыло, с энтузиазмом приняла «конститутивные черты реализма» за «самоочевидную меру классичности»[735]. В работах теоретиков национально-консервативного лагеря Палиевского и Кожинова формулировалась концепция, позволявшая утвердить первенство реализма в русской литературе[736]. Конечно, взгляды этих ученых не стоит упрощать: от пропагандистских «прописей» о торжестве реализма они – в плане научной аргументации и риторики – были далеки. Тот же Кожинов обосновывал отсутствие эвристического потенциала у общепринятого термина «критический реализм», предлагая пользоваться определениями «ренессансный», «просветительский», рассуждал о сосуществовании и взаимодействии в русской литературе XIX века принципов барокко, реализма, романтизма. Но обычно дифференцированное и объемное видение литературного процесса распространялось на исторически отдаленные периоды, концептуализация же современной литературы осуществлялась через призму противостояния реалистических и модернистски-авангардистских течений. И тут традиционалистам было важно доказать «онтологическую» приоритетность реализма – его способность с минимальными искажениями объективировать в художественном образе сущность бытия – то есть преподнести реализм в качестве искусства, консервативного по природе, чуждого притязаний на перемоделирование мира. Признание безусловных преимуществ реализма само по себе – характерно консервативный жест, поскольку для консервативного мышления мир изначально заключает в себе бесконечную множественность смыслов, и стремление авангардистов приписать ему новые, «авторские» смыслы выглядит неоправданной самоуверенностью. Реалистический образ, в котором онтологическое и гносеологическое находятся в балансе, противопоставляется образу авангардистскому, основанному на «волюнтаристской» деформации действительности. Такой ход рассуждений облегчал сближение реализма в традиционалистском дискурсе с антиутопизмом. В их отождествлении, популярном, кстати, у разделявших некоторые традиционалистские установки интеллектуалов, выразился осознававшийся многими кризис рационалистического социального проектирования. Неудивительно, что на идею «онтологичности» реализма мы можем натолкнуться в работах философа и социолога Юрия Давыдова, организационно к национально-консервативному лагерю никакого отношения не имевшего. Тем не менее, его рассуждения о том, что культура ХХ века определяется парадигматическим противостоянием «утопии» и «реализма», на специфическом для советской философии культуры языке варьировали аргументы, актуальные для «неопочвеннического» «оправдания» реализма. Давыдов утверждал, что в современной культуре легко просматриваются два подхода: в рамках первого литературный процесс все больше уподобляется «литературному производству», в рамках второго (представленного, среди прочих, «деревенщиками») искусство развивается в ориентации на «изначальные структуры человеческого бытия и межличностного общения»[737].
Речь идет о подходе, который предполагает высокую степень уважения к тому, что есть, что остается пребывающим (теперь в этом случае принято говорить об «инварианте») в человеческом бытии и постигается не в меру нашей способности того, как оно поддается нашей переработке, нашему «перекомбинированию», не говоря уже о воссоздании по новой «идеальной», модели (она же – утопия)…
Этот подход и является реалистическим в самом широком смысле, восходя к «мимесису» Аристотеля, если понимать под ним подражание космосу… Этот смысл понятия «реализм» изначально противостоял – и противостоит! – плоско-позитивистскому толкованию, для которого реальным является только то, что мы можем пощупать, попробовать на вкус, зафиксировать как «эмпирический факт»… Такой реализм неизменно противился суетливому и тщеславном устремлению перекраивать реальность (саму реальность, то есть, если иметь в виду собственно человеческую реальность, условия возможности существования человека как человека), торопясь навязать ей очередную скороспелую «схему», «безумную идею» и пр. <…> Этот реализм одинаково присущ и реалистическому направлению в литературе и искусстве ХХ века, и соответствующему направлению в литературоведении и теории литературы. Однако нельзя не видеть и того, что в наш век этот – подлинный, а не плоско-позитивистский, и превращенный в лубочную картинку – реализм был самым серьезным образом потеснен литературно-художественными (и, соответственно, теоретическими) направлениями, которые, апеллируя к «современной науке», противопоставляли реальности сущей и пребывающей реальность конструируемую и «построяемую»[738].
Главные представители «классического» реализма в позднесоветской прозе – «деревенщики» тоже были склонны понимать реализм как мировоззрение и своеобразную художественную оптику, позволявшую «воспроизводить» мир с минимальными искажениями, неизбежными в текстах с высокой долей «литературности». Никто из них не пытался теоретизировать по поводу реализма, и в их публицистике примечательно преобладали определения объекта споров либо «от противного» (это не примитивное жизнеподобное искусство, это не натурализм, это не бытописательство и т. п.), либо – «в самом широком смысле». Предельно широкую дефиницию реализма в интервью с португальским писателем Марио Вентурой давал С. Залыгин. Аккуратно следуя штампам советской публицистики, он делал реализм вариантом логоцентризма, оттесняя вопрос о поэтике, в которую облекается логоцентристское мироощущение, на второй план:
…реализм нашего времени – это прежде всего подлинная необходимость той идеи, которую раскрывает писатель, четкость его гражданской позиции, социального взгляда и мышления. Средства же художнические могут быть разные[739].
Не смущаясь тавтологичностью подобного определения, можно сказать, что для Залыгина и многих его коллег по «деревенской» школе в реализме первичной была «реалистическая» установка по отношению к действительности. Наличие «антиутопических» смыслов в трактовке Залыгиным реализма тоже принципиально. Другое дело, что обнаруживал их писатель, выстраивая головокружительные риторические конструкции, которые позволяли ему сказать желаемое, но не впасть в крамолу. Например, в речи Залыгина на VIII съезде советских писателей (1986) критика капитализма за недостаток реализма, выражение почтения к русской классике – «неприступному острову в море антиреализма»[740] и рассуждения о природе, в которой много «социализма» и «реализма», в конечном итоге трансформировались в доказательства научно-экономической несостоятельности проекта переброски северных рек, совершенно «нереалистического» по своей сути. Залыгин часто допускал намеренную и концептуально важную для него неточность, взаимно заменяя слова «реальный» и «реалистический» и освобождая понятие «реализм» от напрашивающихся ассоциаций исключительно с «художественным методом»:
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Писатели-«деревенщики»: литература и консервативная идеология 1970-х годов"
Книги похожие на "Писатели-«деревенщики»: литература и консервативная идеология 1970-х годов" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Анна Разувалова - Писатели-«деревенщики»: литература и консервативная идеология 1970-х годов"
Отзывы читателей о книге "Писатели-«деревенщики»: литература и консервативная идеология 1970-х годов", комментарии и мнения людей о произведении.