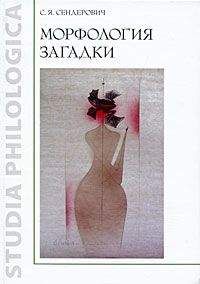Анна Разувалова - Писатели-«деревенщики»: литература и консервативная идеология 1970-х годов

Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.
Описание книги "Писатели-«деревенщики»: литература и консервативная идеология 1970-х годов"
Описание и краткое содержание "Писатели-«деревенщики»: литература и консервативная идеология 1970-х годов" читать бесплатно онлайн.
Исследование посвящено особенностям «деревенской прозы» 1960-1980-х годов – произведениям и идеям, своеобразно выразившим консервативные культурные и социальные ценности. Творчество Ф. Абрамова, В. Солоухина, В. Шукшина, В. Астафьева, В. Белова, В. Распутина и др. рассматривается в контексте «неопочвенничества», развивавшего потенции, заложенные в позднесталинской государственной идеологии. В центре внимания – мотивы и обстоятельства, оказавшие влияние на структуру и риторику самосознания писателей-«деревенщиков», темы внутреннего диссидентства и реакционности, «экологии природы и духа», памяти и наследования, судьбы культурно-географической периферии, положения русских и русской культуры в советском государстве.
С определенного момента Астафьев вообще был склонен проблематизировать статус культуры. С одной стороны, она для него оставалась важнейшим инструментом социализации, вне ее, считал он, невозможно «самоосуществление» личности. Поэтому нежелание внука слушать классическую музыку вызывало у него бурное негодование и казалось знаком «одичания» молодого поколения: «Дед ногти в кровь срывал, чтобы хоть к какой-то культуре прибиться… а эти, наоборот, от культуры, как черт от ладана, в содом, в пещеру, в помойку»[546]. С другой стороны, современная культура все больше представлялась ему доказательством человеческого «падения». Наконец, в отношении писателя к культуре давала о себе знать характерная для крестьянского сознания смесь уважения и недоверия. В определенных контекстах столь почитаемую «высокую» культуру он уподоблял «надстройке» над обычной жизнью с ее простыми трудностями и радостями, соединяя ее с представлениями о рафинированности, утонченности, наивной устремленности к книжным идеалам. Этой эссенциалистски понятой, мифологизированной Культуре с большой буквы писатель искал и находил альтернативу. В его письмах и публицистике появляется еще один «образ» культуры – основанной на интериоризации традиционных этических норм, требующей не образования, знания Пушкина и чтения Шекспира, но определенности моральных ориентиров (тех самых «внутренней культуры», «порядочности», о которых периодически писали «деревенщики»).
Ничего (внучка Поля. – А.Р.) читать не хочет, пишет, как слышит, а я говорю – и пусть не читает, и пусть голову свою легкую не отяжеляет разной трухой и опилками так называемой культуры, любит лошадок, хочет ветеринаром быть и учиться в сельхозинституте, пусть любит лошадок и учится, где хочет, да деда с бабой почитает и понимает, больше и не надо. Многие знания – многие скорби… и лучше уж радоваться без этих самых знаний, чем быть несчастным, угрюмым и нелюдимым со многими знаниями. На земле рожденному, земным человеком и быть ему надо, а не витать в небесах, не шариться в облаках, отыскивая свет и дополнительный смысл жизни[547].
Таким образом, «внутренняя культура» изоморфна природе, взятой за образец, и специфически «природные» свойства (естественность, органичность) оказываются значимыми, хотя и не единственными, критериями ценности культурного акта[548].
Интересно, что придать противоречивым воззрениям Астафьева на культуру сюжетно-темпоральную связность невозможно. Упования на культуру или разочарования в ней преобладали не на том или ином хронологическом отрезке и даже не в том или ином типе высказывания – публичном либо частном, адресованном корреспондентам по переписке. Эти воззрения нельзя описать как последовательный переход от одного дискурса, по каким-либо причинам дискредитированного или исчерпавшего себя в глазах писателя, к другому. Напротив, с убежденностью и почти одновременно Астафьев продумывает взаимоисключающие идеи, хотя его эстетика и публичная позиция долгое время обусловливаются традиционным просветительским идеалом, который со временем (примерно с середины 1980-х) он сам же станет яростно дезавуировать. Примечательно, что вполне оптимистичные пророчества Астафьева о рождении «нового человека» через приобщение к культуре хронологически совпадают с первыми, высказанными в частной переписке, сомнениями в способности культуры что-либо менять и на кого-либо влиять. В 1964 году в письме Ивану Степанову писатель раздраженно замечает:
Вон у меня на полке стоит двести книг из серии «Жизнь замечательных людей», стоят сочинения титанов – Толстого, Достоевского, Бальзака и многих, многих страдальцев «за будущее», за человека. И что? Лучше стал человек? Жизнь его устроенней сделалась? Он высвободил ум и себя от забот о насущном хлебе для творчества и великих дел? Да ни хрена подобного! Все стало хуже и человек тоже. Эта двуногая скотина сама себя поставила к стенке и не понимает этого[549].
Искусство, историко-культурный опыт персонажей «ЖЗЛ» служат здесь верификации прогрессистского дискурса («лучше стал человек?»), в результате чего Астафьев вынужден признать, во-первых, отсутствие прогресса в духовной области, во-вторых, неоправданность надежд, в том числе и собственных, на преобразующую роль культуры. Возможно, за этим признанием стоит крушение иллюзий «неофита», прорвавшегося к культуре «из низов» и уповавшего на нее – ни больше, ни меньше – как на орудие спасения человечества. Кстати, просветительское отождествление «слова» и «дела» в советском культурно-политическом контексте выражалось подчас гипертрофированно (ср., к примеру, с высказыванием предтечи «деревенщиков» Валентина Овечкина: «Пишешь, пишешь и – ни хрена, ни на градус не повернулся шар земной»[550]), и Астафьев, вероятно, поначалу тоже вполне серьезно рассчитывал на видимый морально-педагогический и социальный эффект писательства, однако действительность безжалостно опрокинула эти ожидания.
В «Зрячем посохе», прощаясь (в очередной раз) с иллюзиями по поводу культуры, Астафьев утверждал: «само влияние литературы и искусства на человеческое общество у нас, как и во всем мире, преувеличено…»[551]. «Все классики нашей литературы, великие умы российские, жизнью своей и твореньями пытались хоть что-то изменить к лучшему, но толоконный лоб так и не пробили…»[552] – уточнял он свою мысль уже в 1993 году в письме прозаику Алексею Бондаренко. Из последнего высказывания, как и из процитированного выше письма Степанову, следует, что ответственность за неосуществленную утопию преображения личности литературой Астафьев возлагал на читателя. По сути, поставив под сомнение «действенность» литературы и искусства, художник поставил под вопрос и самого человека, и сделал это радикально – усомнившись в нем как в жизнеспособном антропологическом виде. Со временем Астафьев все больше сосредоточивается на проблеме неподатливости людской природы просвещающему воздействию культуры, истоках зла и интуитивном выборе человечеством нисходящей траектории развития. Примерно с конца 1970-х годов разнообразные факты и явления, от случаев бытового насилия до глобального экологического кризиса, писатель упорядочивает в рамках дискурса деградации. Парадоксально, однако, что основой астафьевского самоопределения все это время остается предложенная критиком А. Макаровым еще в 1960-е годы формула: «…по натуре своей он моралист и певец человечности…»[553]. «Я – последний, кто разочаруется в человеке»[554], – заявлял Астафьев в 1997 году, несмотря на то, что его художественная практика и публицистические манифестации к тому времени стали примером проблематизации гуманистического дискурса. Он действительно наследует, не избегая при этом терапевтического самоубеждения, руссоистской идее изначальной предрасположенности личности к добру: «Человек-то ведь задуман Богом хорошо»[555]. Однако амплитуда его суждений о человеке такова, что другой крайней точкой оказываются уничижительные определения – «выродившаяся тварь», «ошибка природы, роковая ее опечатка»[556]. Прошедший фронт Астафьев все более откровенно заявляет, что под тонкой пленкой культуры в человеке кроется неустранимое животное начало. Проявления в обыденной жизни агрессии, особенно институциализированные, у него, травмированного зрелищем военного насилия, вызывают болезненное неприятие. В 1960 году он пишет жене:
На бокс сходили. Зрелище это пробуждает в человеке зверя, низменные, жестокие его инстинкты. Люди кричат: «Добивай!» Кровь с лица не дают утереть. <…> Московские психопаты и смотрят, и визжат с горящими глазами, аж судороги их берут! <…> Зрелище это адски-захватывающее, жестокое, бесчеловечное[557].
В течение следующего десятилетия (в 1970-е годы) искусственное возбуждение кровью, жестокостью, нагнетание военно-мобилизационной риторики в повседневных обстоятельствах[558] он будет все так же бескомпромиссно числить по разряду психических аномалий:
Не ведают они (охотники-браконьеры. – А.Р.), что, перестав бояться крови, не почитая ее, горячую, живую, сами для себя незаметно переступают ту роковую черту, за которой кончается человек и из дальних, наполненных пещерной жизнью времен выставляется и глядит, не моргая, низколобое, клыкастое мурло первобытного дикаря[559].
Впоследствии художник сконцентрируется на проблеме немотивированности агрессии, пренебрежительном отказе современного человека отыскивать хоть какие-то основания, дабы оправдать применение насилия (об этом идет речь в «Пакости», 1984, «Печальном детективе», 1986, «Людочке», 1989). В прозе 1980-х годов, решительно раздвинувшей границы допустимого в изображении насилия и побудившей Виктора Ерофеева сделать весьма спорное умозаключение о разрыве Астафьева с русской «философией надежды»[560], писатель указывает на неизбывное присутствие в глубинах человеческой природы агрессивности и жестокости, хотя углубленной аналитики их истоков, биологических или метафизических, не предлагает:
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Писатели-«деревенщики»: литература и консервативная идеология 1970-х годов"
Книги похожие на "Писатели-«деревенщики»: литература и консервативная идеология 1970-х годов" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Анна Разувалова - Писатели-«деревенщики»: литература и консервативная идеология 1970-х годов"
Отзывы читателей о книге "Писатели-«деревенщики»: литература и консервативная идеология 1970-х годов", комментарии и мнения людей о произведении.