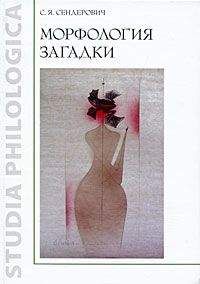Анна Разувалова - Писатели-«деревенщики»: литература и консервативная идеология 1970-х годов

Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.
Описание книги "Писатели-«деревенщики»: литература и консервативная идеология 1970-х годов"
Описание и краткое содержание "Писатели-«деревенщики»: литература и консервативная идеология 1970-х годов" читать бесплатно онлайн.
Исследование посвящено особенностям «деревенской прозы» 1960-1980-х годов – произведениям и идеям, своеобразно выразившим консервативные культурные и социальные ценности. Творчество Ф. Абрамова, В. Солоухина, В. Шукшина, В. Астафьева, В. Белова, В. Распутина и др. рассматривается в контексте «неопочвенничества», развивавшего потенции, заложенные в позднесталинской государственной идеологии. В центре внимания – мотивы и обстоятельства, оказавшие влияние на структуру и риторику самосознания писателей-«деревенщиков», темы внутреннего диссидентства и реакционности, «экологии природы и духа», памяти и наследования, судьбы культурно-географической периферии, положения русских и русской культуры в советском государстве.
Глава II
«МНЕ БЫ ХОТЕЛОСЬ КОГДА-НИБУДЬ СТАТЬ ВПОЛНЕ ИНТЕЛЛИГЕНТНЫМ ЧЕЛОВЕКОМ»: ПИСАТЕЛИ-«ДЕРЕВЕНЩИКИ» И ПРОБЛЕМЫ КУЛЬТУРНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ
Дмитрий Быков в статье «Телегия» обвинил «деревенскую прозу» в «антикультурной страстности»[233], якобы не имевшей себе равных в отечественной литературе. Между тем, упреки в антиинтеллектуализме – подозрительно-настороженном отношении к явлениям современной культуры и новым цивилизационным стандартам – в адрес «деревенщиков» звучали и раньше, обычно со стороны либерально настроенной критики «долгих 1970-х»[234]. С обвинениями в «антикультурности» «деревенщики» бы, вероятно, поспорили – культура как набор ценностей и инструментов для создания и поддержания коллективной идентичности их весьма занимала, публичную озабоченность ее состоянием они высказывали неоднократно. Иначе и быть не могло: культура, по словам Максима Вальдштейна, остававшаяся «одним из ключевых компонентов в дискурсе как интеллигенции, так и советских властей», «постепенно составила одну из центральных духовных ценностей советской цивилизации»[235]. Вальдштейн основанную на гибридизации гегельянства и марксизма, партикуляристского «романтического национализма» в духе XIX века и универсализма, популярную (в смысле массовости распространения) «теорию культуры» отличает от структуралистского «культурализма» и других позднесоветских культурологических «отклонений» (наподобие идей Леонида Баткина). Для нее, по мнению исследователя, характерны, во-первых, интерес к механизмам культурной преемственности (в то время как структуралисты сосредоточивались на изучении разрывов и режима прерывности), во-вторых, выраженный эссенциализм[236]. Национал-консерваторам культура, действительно, представлялась особой символической областью, словно надстроенной над жизнью, так что метафору «войти в культуру» в данном случае можно было понимать буквально, как обозначение «транзита» в иное пространство. Культура была для них резервуаром смыслов, уже некогда открытых и воплощенных в высших художественных творениях и теперь нуждающихся в защите от экспансии «примитивных» ценностей современной цивилизации, «небытия, популяризации и коммерциализации»[237].
Свойственная советскому дискурсу тенденция «объединять понимание культуры как “образа жизни” и как резервуара самых ценных достижений человечества»[238] всецело определила русло рассуждений «деревенщиков» о культуре. Они воспринимали ее как «высший взлет» духа и одновременно капитал, наличие которого помогает достичь социальной успешности. Кроме того, коллективная память выходцев из деревни сохраняла исторически сформировавшееся представление о городском «происхождении» культуры. «Те, кто культивируют землю, все меньше и меньше способны культивировать самих себя»[239], – обращал внимание Терри Иглтон на эту «исторически сложившуюся» несообразность. Словно подтверждая это наблюдение, Сергей Залыгин, наиболее благополучно, в сравнении со многими коллегами по «деревенской прозе», социализировавшийся и взявший успешный старт в научно-административной карьере[240], признавал культурную ущемленность крестьянства:
Приспособление к земле, консерватизм земледельческой технологии создали и труд, и уклад, в результате которых сам земледелец со временем оказался менее других сословий обеспечен земными благами, менее других просвещен и образован[241].
Вместе с тем именно «деревенщики» – продукт советского просветительского проекта – стали ярким примером отступления от сложившегося положения вещей. Делая профессиональную писательскую карьеру в городе, выходцы из деревни обретали новый статус и связанные с ним публичные функции. Это подталкивало «деревенщиков» к «выяснению отношений» с полноправно обретавшимися в пространстве культуры «интеллигентами» и «интеллектуалами» (позитивная и негативная транскрипции «человека культуры»). Расщепляя культуру на «природу» и «цивилизацию», регулируя дистанцию (от слияния до разделения) между собой и профессиональными «людьми культуры», «деревенщики» проговаривали и уточняли природу собственного консерватизма. Специфика их культурного самоопределения, как на коллективном, так и на индивидуальном уровне, как в процессах конкурентной борьбы, так и в ситуациях мировоззренческих кризисов, станет предметом рассмотрения в этой главе. Я попытаюсь взглянуть на деревенщиков как на сообщество, сформированное переживанием депривации, «лишенности» и, как следствие, интуитивно ориентированное на выражение определенных эмоций, частично мною перечисленных выше – «боль», «горечь», «печаль», «возмущение» и т. п. Иначе говоря, речь пойдет о «деревенщиках» как об «эмоциональном сообществе», если использовать популярный после публикации работы Барбары Розенвейн[242] термин. Погружаться в специализированное изучение «истории эмоций» я, конечно, не намерена, более того, значительная часть материала в этой главе будет проанализирована в свете идей Пьера Бурдье. И все же упомянуть об «эмоциональных сообществах» необходимо, поскольку, во-первых, этот термин отчасти совпадает с бурдьенианским представлением о «габитусе»[243], во-вторых, рассмотрение специфики самоинтерпретации и самопрезентации «деревенщиков» не позволяет проигнорировать вопрос о роли «эмоционального фактора» в процессах возникновения группы, и тут размышления Розенвейн о способности эмоций трансформировать габитус и обеспечивать переход субъекта из группы в группу[244] могут многое объяснить.
В поисках оппонента: Эстетика конфронтации и этика солидарности
В рецензии на книгу Василия Белова «Лад» критик Владимир Турбин привлек внимание к выпадам писателя против воображаемого высокомерного и многознающего читателя, заведомо готового обвинить автора «Лада» в идеализации русской жизни:
Белов учит идеализации. Хорошо поступает. Но не срывается ли, противореча своему же собственному степенному тону, на какие-то раздраженные, нервозные интонации? Рассказывает, например, о северянах, ладивших такелаж для русского флота, и раздраженно воскликнет, что об этом мало известно романтикам «алых парусов» и бесчисленных «бригантин». Рассуждает об естественном деревенском здоровье и – такой же раздраженный выпад против профессионального спорта, физических упражнений, ставшего повсеместным бега. Славит доброту, терпимость, взаимное понимание, и тут же – нетерпимость. Почто уж так-то?
Инженер, бухгалтер или тот же вологодский юноша, приехавший в город и ставший студентом, никоим образом не повинны в том, что они ни ржицы не сеют, ни лен трепать не горазды, ни вервие вить. Что живут они не в избах, а на предоставленной им горсоветом жилплощади. Что любят они и писателя Белова, и еще – о ужас! – писателя Грина. Что поют они «Бригантину» и смотрят футбол «Спартак» – «Реал», интересно. Ничего предосудительного в их образе жизни, смею думать, никак не содержится. И если хочешь, чтобы понимали тебя, пойми других[245].
«Нервозные интонации», спорадически появляющиеся в «Ладе», вряд ли стоит считать особенностью идиостиля Белова. В той или иной степени они характерны публицистике Виктора Астафьева, Валентина Распутина, Владимира Солоухина: иронический или лирический тон, взвешенные рассуждения авторов подчас немотивированно прерываются раздраженными упреками в адрес неких сил, оказывающих им явное или скрытое противодействие. Возникает эффект не просто заостренной полемичности отдельных высказываний, особенно по «программным» вопросам, но выстраивания самообъясняющего дискурса в виду постоянного присутствия оппонента, нацеленного на компрометацию «деревенщиков». Кем – в социальном и культурном плане – был этот условный оппонент, символический Другой / Чужой, значимость которого можно диагностировать даже по интонационным и стилистическим перебоям? Принадлежит ли его образ целиком сфере воображаемого? Или за ним стоят вполне реальные конфликты? Каковы были стимулы, побудившие «деревенщиков» рефлексировать на образ Другого? В каких контекстах он формировался и с помощью какого языка описывался?
Теоретико-методологический подход к рассмотрению поставленных вопросов в данном разделе работы сформирован идеями Пьера Бурдье о структуре литературного поля и принципах конкуренции в нем различных групп, а также апробированными отечественной филологической традицией методами рассмотрения семиотики бытового поведения и костюма[246]. Материалом раздела служат публицистика писателей-«деревенщиков», интервью с ними, их эпистолярий, источники мемуарно-(авто)биографического плана, ставшие ретроспективным комментарием к процессам адаптации к городской культуре, наконец, художественная проза. Разброс в датировке использованных источников широк: с начала 1950-х годов (первые из опубликованных ныне писем В. Астафьева) до начала 2000-х (мемуары о В. Шукшине, В. Астафьеве, В. Солоухине и др.). Далеко не все свидетельства культурной дискриминации, на которые я ссылаюсь, были в «долгие 1970-е» публичными, часть из них проговаривалась в узком сообществе «своих». Но, очевидно, трудности профессионального карьерного самоутверждения живо обсуждались в формирующихся национально-консервативных кругах и определяли многое – от формул публичной самопрезентации до стилистики авторов-традиционалистов.
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Писатели-«деревенщики»: литература и консервативная идеология 1970-х годов"
Книги похожие на "Писатели-«деревенщики»: литература и консервативная идеология 1970-х годов" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Анна Разувалова - Писатели-«деревенщики»: литература и консервативная идеология 1970-х годов"
Отзывы читателей о книге "Писатели-«деревенщики»: литература и консервативная идеология 1970-х годов", комментарии и мнения людей о произведении.