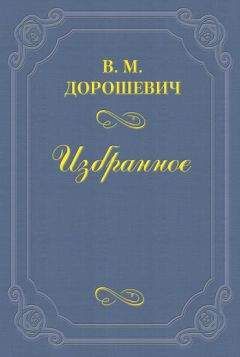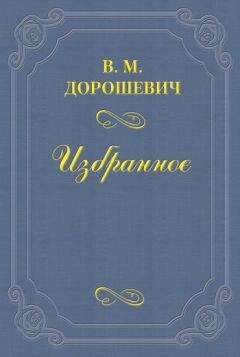Семен Букчин - Влас Дорошевич. Судьба фельетониста

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Влас Дорошевич. Судьба фельетониста"
Описание и краткое содержание "Влас Дорошевич. Судьба фельетониста" читать бесплатно онлайн.
Имя Власа Дорошевича (1865–1922), журналиста милостью божьей, «короля фельетонистов», — одно из самых громких в истории отечественной прессы. Его творчество привлекало всеобщее внимание, его карьера переживала бурные взлеты и шумные скандалы. Писатель, доктор филологических наук Семен Букчин занимается фигурой Дорошевича более пятидесяти лет и знает про своего героя буквально всё. На обширном документальном материале (с использованием дореволюционных газет и журналов, архивных источников) он впервые воссоздает историю жизни великого журналиста, творчество которого высоко ценили Лев Толстой, Чехов, Горький. Чувство юмора и трагическое восприятие мира, присущие Дорошевичу, его острословие и зоркость критического взгляда — всё передано Букчиным с равной убедительностью. Книга станет существенным вкладом в историю русской литературы и журналистики.
«Глубокоуважаемый Александр Степанович!
Приношу Вам глубокую благодарность за Ваше письмо и глубоко, всей душой, сожалею и скорблю, что по причинам от меня не зависевшим я не имел возможности раньше исполнить мой нравственный долг пред памятью почившего Николая Степановича Леонтьева и пред родственниками покойного.
Прошу Вас принять искреннее выражение глубокого почтения, с которым я имею быть Вашим покорнейшим слугой»[1139].
Не щадивший ударов сатирического бича, фельетонист умел, когда это требовалось, быть одновременно искренне и изысканно вежливым.
Мертвенность общественной ситуации по-своему подчеркнул герценовский юбилей — 100-летие со дня рождения Искандера. Еще совсем недавно это имя было под запретом. В 1900 году, в тридцатилетнюю годовщину смерти автора «Былого и дум», Дорошевич вспомнил о печальной традиции: как при приближении поезда к российской границе во всех купе жадно читали русские книги, брошюры, листки, все то, что называлось тогда нелегальной литературой, а потом выбрасывали в окно.
«Обе стороны полотна усеяны книгами. Жителям Подволочиска есть из чего свертывать папиросы! Если бы они захотели, они могли бы составить себе огромную библиотеку».
Книги Герцена занимали бы в ней почетное место.
Тогда же он вопрошал, нет, не читателя, скорее власти: «Разве во многом его книги не обвинительный акт, по которому уже состоялся обвинительный приговор?»
Если это так, то из-за чего приходится, краснея и одновременно целуя книгу (как не простить сентиментальности), выбрасывать ее в окно?
«Неужели из-за рассеянных там и сям личных нападок, которые потеряли теперь уже весь свой яд, потому что те, в кого они были направлены, уже давно померли?
Да разве же в этих резких строчках Герцен-мыслитель, Герцен-художник, Герцен великий патриот, отличающийся от патентованных патриотов тем, что он любил свою родину просвещенной любовью?» (IV, 4).
И вот прошло двенадцать лет, жизнь вроде бы смягчилась, но ощущение тупика пронизывает фельетон «На одной точке», приуроченный к столетней годовщине Герцена: «Конечно, радостно, что друг ни капли не постарел.
Но вместе с радостью за него в сердце просыпается тревога за себя.
Почему Герцена не касается своей рукой всесокрушающее время? <…>
Если он, умерший больше 40 лет тому назад, жив, — что же мы-то?
Мы? Живые?
Лежим в летаргии?
Время остановиться не могло.
Остановились мы <…>
Так хорошо мы, — мы, а не Герцен, — „сохранились“.
Так сохраняются только хорошо замороженные трупы».
Павленков выпустил шесть томов, но «всего Герцена до сих пор невозможно издавать в России». Решись кто-нибудь на такое — «издание будет конфисковано, а издатель — послан пасти Макаровых телят»[1140]. К выходу в России в 1905 году первого собрания сочинений Герцена Дорошевич, что называется, самым непосредственным образом приложил руку. Когда Н. А. Тучкова-Огарева решила привезти герценовский архив из Лондона, он принялся хлопотать перед властями, писать соответствующие ходатайства, доказывая необходимость возвращения наследия писателя на родину[1141].
Хлопоты эти убеждали, что просвещенная любовь к родине, ее культуре, ее выдающимся деятелям была по-прежнему в России не в чести. Как, впрочем, и носители этой любви и вообще всякие крупные люди, могущие и желавшие принести стране пользу. «Сколько эмигрантов, сколько сосланных, сколько удаленных общественных деятелей. Сколько людей признано ненужными для жизни России»[1142], — эти горькие слова вырвутся у него за два года до большевистского переворота. Примеров тому несть числа. Буквально за несколько дней до наступления 1909 года умер очень близкий Дорошевичу человек, знаменитейший адвокат, московский златоуст — Федор Никифорович Плевако. Природный защитник. Обладатель неумолимой логики в сочетании с блестящим красноречием. Один из невольных учителей Дорошевича в судебной практике. Романтическая фигура старой Москвы, еще верившей в благородство поступка и силу справедливого слова. Да и внешне Федор Никифорович был фигурой импозантной: седые волосы по плечам, лицо исполнено значительности, о которой Мельников-Печерский сказал: «Мы свои лица выслуживаем, как ордена». Казалось бы, вот и пришло время такого человека — Плевако стал депутатом Государственной Думы, есть где развернуться его уму и колоссальному опыту. Но «рожденный Мирабо» так и не стал «русским Мирабо». «Почему у нас так рано изнашиваются люди? — спрашивает Дорошевич в посвященном ему очерке-некрологе. — Изнашиваются в чаянии дела больше, чем в делании его <…> Как случилось, что, когда заговорила вся Россия, молчал ее лучший „златоуст“? У кого же было больше сказать, чем у Федора Никифоровича Плевако? Сколько слез, горькой обиды, черной неправды, сколько тягот русской жизни, „обиды сильного, презренья наглеца“, беспросветного отчаяния, страданий, муки и скорби, торжества неправды, унижения правоты, мрака, безвестных мучений прошло перед ним. Если б собрать воедино все слезы, которые были пролиты здесь, — великий оратор захлебнулся бы в своем кабинете, как пушкинский скупой „в своем подвале верном“. Зачем же его уста были запечатаны тогда, когда распечатались уста всех?»
Впрочем, он сам знает ответ: «Но приходится снова повторять:
— О, страна бесконечных расстояний!
Какая свеча перед какой иконой не догорит в твою долгую, бесконечную зимнюю ночь.
Какая полная лампада, ярко возженная благоговейною рукой, не выгорит и не погаснет в декабрьскую ночь до позднего, слишком позднего рассвета <…>
Надежды умерли к тому времени, как они стали осуществляться.
И грустный опыт примирил со многим сердце, потерявшее надежду.
Это тоже склероз сердца, когда горький опыт наполняет его безнадежностью.
Оно уже больше не в силах так биться, так сжиматься и делаться таким большим, таким огромным <…>
Слушая годы, долгие годы, беспросветную повесть русского горя, — он привык к ней.
Перестал верить, что может солнце у нас засветить.
Вот почему, когда раздался призывный голос:
— Лазарь! Тебе говорю: встань!
В ответ из пышного мавзолея, сложенного из говорящих, — много говорящих, — камней, послышалось печальное и лишенное веры:
— Трехдневен есмь…»[1143]
Как и Плевако, «не пригодился» России другой замечательный человек — Максим Максимович Ковалевский, ученый с европейским именем. Историк, юрист, социолог, изгнанный из Московского университета, он основал в Париже для русских эмигрантов Высшую школу общественных наук. После возвращения в Россию был избран депутатом Государственной Думы, затем стал членом Государственного Совета. «Если бы русское освободительное движение произошло тогда, когда ему надо было произойти, — 25 лет тому назад, — не только мы, мир бы имел одного из самых могучих, передовых и увлекательных парламентских ораторов, — сокрушается Дорошевич. — М. М. Ковалевский стоял бы во главе передовой и могущественной партии». Но опять то ли время не совпало, то ли кончился запал у личности и сказалось, что «полицейские власти держали вдали от русского университета выдающегося человека своей страны»…
Что же это за проклятие такое?
«Страну, которая, — по выражению Герцена, — „на сотни лет крепостного права отвечает рождением Пушкина“:
— Господь благословил людьми.
И изо всех наших „природных богатств“ наиболее остаются втуне, наименее использованы у нас:
Люди».
Вот и скончавшийся в 1916 году Максим Ковалевский, «которого так пышно хоронили, все же остался как следует:
Неиспользованным.
В этом горечь русской жизни»[1144].
Эта же мысль — о неиспользованности человеческого потенциала в России — является подспудной в очерковом цикле «Торгово-промышленники»[1145] (вполне возможно, что в нем использован тот материал, что предназначался для ненаписанного романа «Дельцы»), в котором запечатлены разные по личностной сути крупнейшие представители российского бизнеса. Но объединяет их ощущение гибнущей, нераскрытой по-настоящему силы, которая могла бы принести немало пользы отечеству. Чернов, Бугров, Морозов, Мамонтов… Всех их так или иначе раздавил тот бюрократический Петербург, по адресу которого Дорошевич выпустил немало самых язвительных своих стрел. Правда, и в той же чиновной среде он искал и находил людей действительно способных приносить реальную пользу стране, таких, как нижегородский губернатор Н. М. Баранов, товарищ министра финансов В. И. Ковалевский. Но и они в итоге стали не нужны той омертвевшей бюрократической системе, символом которой является вице-губернатор, заявивший в ответ на предложение открыть университет, «рассадник социальных знаний», что «социальный строй устраивать, слава тебе, Господи, еще не позволено» и вообще, что «социальный, что социалистический — один черт. Вообще социализм!» А «политическая экономия — это чтоб министрам жалованье меньше платить. Мы этому учить, извините, не позволим!»[1146]
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Влас Дорошевич. Судьба фельетониста"
Книги похожие на "Влас Дорошевич. Судьба фельетониста" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Семен Букчин - Влас Дорошевич. Судьба фельетониста"
Отзывы читателей о книге "Влас Дорошевич. Судьба фельетониста", комментарии и мнения людей о произведении.