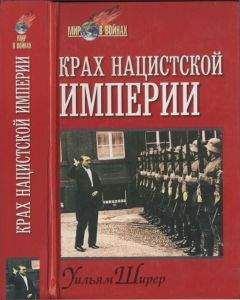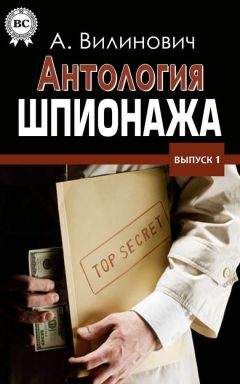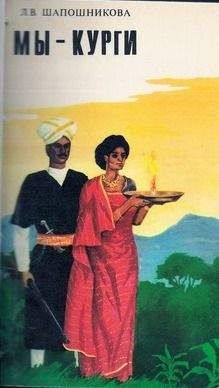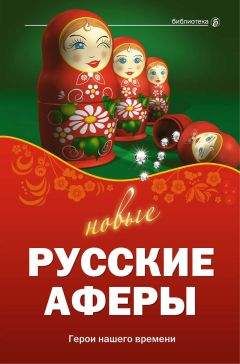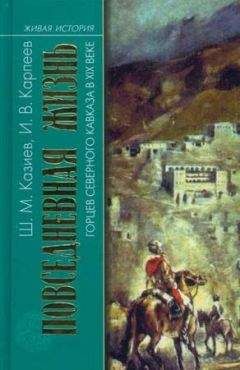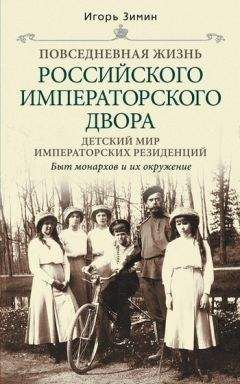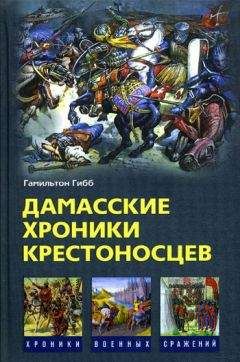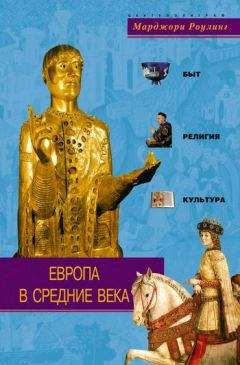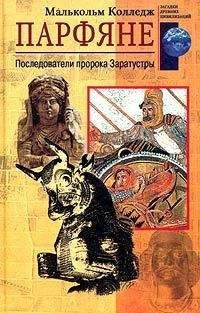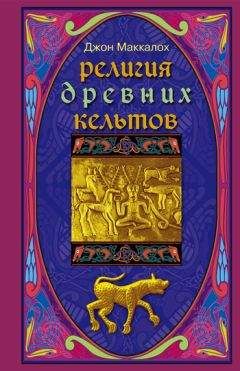Светлана Рыжакова - Фуксы, коммильтоны, филистры… Очерки о студенческих корпорациях Латвии
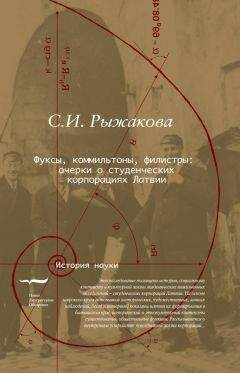
Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.
Описание книги "Фуксы, коммильтоны, филистры… Очерки о студенческих корпорациях Латвии"
Описание и краткое содержание "Фуксы, коммильтоны, филистры… Очерки о студенческих корпорациях Латвии" читать бесплатно онлайн.
Работа этнолога, доктора исторических наук, ведущего научного сотрудника Института этнологии и антропологии РАН Светланы Рыжаковой посвящена истории, социальному контексту и культурной жизни академических пожизненных объединений – студенческих корпораций Латвии. На основе широкого круга источников (исторических, художественных, личных наблюдений, бесед и интервью) показаны истоки их формирования в балтийском крае, исторический и этнокультурный контексты существования, общественные функции. Рассказывается о внутреннем устройстве повседневной жизни корпораций, о правилах, обычаях и ритуалах. Особенное внимание привлечено к русским студенческим корпорациям Латвии и к биографиям некоторых корпорантов – архитектора Владимира Шервинского, шахматиста Владимира Петрова и его супруги Галины Петровой-Матисс, археолога Татьяны Павеле, врача Ивана Рошонка и других. В книге впервые публикуются уникальные иллюстрации из личных архивов и альбомов корпораций.
В целом же приходится признать, что в 1920 –1930-е гг. не произошло глубокой интеграции большинства русского населения Латвии в новую общественную структуру этой страны[125]. А. Страуме характеризует ситуацию как «медленную интеграцию»[126]. Значительная часть русских (практически 33,5 тысячи эмигрантов из России в конце 1920-х гг.[127] рассматривала Латвию как временное пристанище на пути к демократической России[128]. К числу факторов, затрудняющих политическую интеграцию русских в Латвии, Сергей Кузнецов относит прежде всего «рецидивы имперского мышления»:
У многих сохранялось не вполне, вероятно, осознанное, но вполне реальное чувство некоего превосходства над коренным населением в силу своей принадлежности к великой, веками господствовавшей в исчезнувшей империи нации. Превращение из представителей относительно привилегированного слоя в национальное меньшинство создавало серьезную психологическую проблему не только для многих русских, но также для балтийских немцев и поляков в Латгале[129].
В межвоенной Латвии существовало несколько русских студенческих организаций[130]. Особый, религиозный характер имело Русское православное студенческое единение, сформировавшееся в Риге в 1927–1928 гг., история которого подробно описана в работе Н.К. Фелдман-Кравченок. Аналоги ему были и в Эстонии, и в Финляндии, и оно сложилось под влиянием лекций Н.А. Бердяева, активно участвовавшего в создании всего Русского студенческого христианского движения[131], частью которого и было РПСЕ. Тут шла работа кружков, собирались съезды, проводились семинары. Однако в 1934 г. работа единения в Латвии была прервана и сама организация закрыта по обвинению в антигосударственной пропаганде, стремлении восстановить Российскую империю. Неформальное общение тем не менее продолжалось. А в 1940 г. многие участники этого движения разделили судьбу других репрессированных; в частности, И.А. Лаговский, секретарь РСХД по Прибалтике, был арестован и расстрелян, его супруга Т.П. Лаговская провела в лагерях с 1941 по 1957 г.[132]
Другими студенческими организациями Латвии были ОРСЛУ – Общество русских студентов Латвийского университета (первым его руководителем в 1924 г. был Николай Антипов – член Fraternitas Arctica, а также один из основателей и первый сениор Ruthenia, потом – Ф. Кулачевский, Г. Прокофьев и др.), куда могли входить и корпоранты, Русское академическое общество, Fraternitas Rossica и Sororitas Rossica (последние два существовали при Русском институте университетских знаний). С 1929 г. существовало литературное общество «Содружество на струге слов»[133]. 1940 год стал четким водоразделом: были закрыты практически все старые культурные и общественные организации.
В советское время сложилась совершенно иная картина русского мира Латвии. Ныне русские не образуют единую национальную общину; среди них имеются различные слои и социальные группы с резко отличающимися интересами, образовательным уровнем, политической ориентацией (люди, принадлежащие к номенклатуре и военному контингенту, техническая и гуманитарная интеллигенция, квалифицированные и неквалифицированные рабочие, особый слой составляет старообрядческое население[134].
С конца 1980-х гг. в Латвии начали возникать общества русской культуры, в которые вошли главным образом представители гуманитарной и творческой интеллигенции. Это были Балто-Славянское общество (руководитель – В. Попов), Латвийское общество русской культуры (первый руководитель Ю. Абызов), Центр гуманитарных исследований «Веди» (И. Иванов), Фонд славянской письменности и культуры» (Б. Инфантьев, С. Журавлев), а также Русская община Латвии, Русская национально-культурная автономия национальных меньшинств Латвии (В. Юрков) и множество других. Русская община Латвии, Ассоциация граждан России, Лига апатридов Латвии делали безуспешные попытки создания среди русских Латвии единой, всеохватывающей организации. В 1994 г. был основан Центр русской культуры Латвии, куда вошли семь русских организаций, однако и это объединение просуществовало недолго. В настоящее время в среде русских обществ Латвии и отдельных представителей интеллигенции можно наблюдать два противоположных процесса – как дифференциацию, размежевание, так и теоретические и практические попытки объединения (подчас радикального).
В целом среди русских общин Латвии не наблюдается мировоззренческого и организационного единства. Известный русский художник Латвии, руководитель Художественного объединения Балто-Славянского общества Николай Уваров, в интервью 1996 г. говорил:
…местные общества русской культуры забывают, что культура – это не организация, а живой организм. Когда русские почувствуют свою принадлежность к некоей космической культуре, тогда что-то может получиться. Как можно притащить человека к культуре, если он и книг-то не читает? В Латвии разрушена эта хрупкая интеллигентная среда. Сейчас все мы скорее как атомы-одиночки. Но мы еще только в начале пути. Нас встряхнули как банку с песком. Залежавшиеся слои перемешались. Общество только-только начинает структурироваться…[135]
Ныне, как представляется, некоторое самоопределение произошло. Большинство русских Латвии выбрало путь интеграции в современное латвийское общество, и способов этой интеграции несколько (экономические, политические), хотя звучит и иная точка зрения. Ситуация, по словам Дмитрия Трофимова, связана подчас с мнимыми проблемами части латвийского общества.
Тут, в Латвии, есть общество и государство, и если ты хочешь быть его частью, ты должен понимать, где ты находишься. Проблема многих русских Латвии в том, что они не хотят быть его частью, и это их право, никто не должен затягивать в общество насильно. Они могут жить тут и не разговаривать по-латышски, но если эти люди хотят стать частью общества и государства, – они должны принять ценности этого общества, в том числе и язык[136].
Как нам представляется, студенческие корпорации Балтии стали одной из общественных структур, одновременно дифференцирующих, но и объединяющих местные этнические сообщества. Феномен русских студенческих корпораций Латвии – единственный пример долгого исторического существования подобной организации. Обратимся же к тому контексту, где, когда и каким образом это складывалось.
Глава 4
Студенческие корпорации Дерптского (Юрьевского) университета. Краткая история, культурное и общественное влияние
История всех балтийских корпораций начинается в Дерптском университете, образованном в 1802 г. (фактически же это было восстановление созданного тут еще в 1632 г. шведским королем Густавом II Адольфом Academia Gustaviana). 12 декабря 1802 г. император Александр I подписал «Акт постановления для Императорского университета в Дерпте». 8 сентября 1803 г. был утвержден устав университета, предполагавший полную автономию. Он получал привилегию «иметь свою внутреннюю расправу и полное начальство над всеми членами своими, подчиненными, равно над их семьями»; он ведал все дела, «до сих лиц касающиеся», разбирал долговые претензии, производил первоначальное расследование по уголовным делам. Университету, таким образом, была дана широкая гражданская и уголовная юрисдикция.
Так как дворянство пожертвовало на университет 40 000 руб., то ему предоставлено было право участвовать в управлении делами университета; выборные из дворян кураторы заведовали хозяйственной частью. Университет «имел собственную цензуру для своих сочинений» и бесконтрольно выписывал из-за границы необходимые книги. Как «ученое заведение», университет разделялся на четыре отделения: философское, врачебное, юридическое и богословское; это деление просуществовало до 1850 г., когда философский факультет распался на историко-философский и физико-математический. В университет принимались люди всякого звания и состояния, русские подданные и иностранцы. Студенческая жизнь до мелочей регламентировалась уставом; так, например, определялась сумма, которую студент мог тратить на те или другие нужды. Однако студенческая жизнь с самого начала вышла из назначенных ей рамок.
Примечательно, что университетский устав 1803 г. объявлял студенческие корпорации незаконными, но потребность в них имелась, и уже в том же самом году были предприняты попытки создания общей корпорации студентов Allgemeine Burschenschaft. За образец данного общества взяли уставы немецких студенческих корпораций. Первый Comment был составлен в 1806 г., но вследствие доноса университетскому начальству был изъят и сожжен. Неофициально данное общество просуществовало приблизительно до 1810 г., после чего распалось, зато начали возникать новые студенческие корпорации, Curonia (объединявшая студентов – представителей дворянства, курляндских немцев, появилась в Дерпте в 1808 г.), Livonia (объединяющая лифляндских немцев) и другие. В Дерпте корпорации объединялись в Конвент шаржированых (Ch!C!). Когда Конвент шаржированых был официально распущен и запрещен властями, начал действовать временный орган – Reprasentanten Convent (действовал он во второй половине 1840-х гг.). Потом Конвент шаржированых был восстановлен. Правительство не придавало значения этим организациям и допускало их свободное развитие.
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Фуксы, коммильтоны, филистры… Очерки о студенческих корпорациях Латвии"
Книги похожие на "Фуксы, коммильтоны, филистры… Очерки о студенческих корпорациях Латвии" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Светлана Рыжакова - Фуксы, коммильтоны, филистры… Очерки о студенческих корпорациях Латвии"
Отзывы читателей о книге "Фуксы, коммильтоны, филистры… Очерки о студенческих корпорациях Латвии", комментарии и мнения людей о произведении.