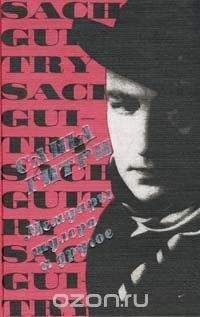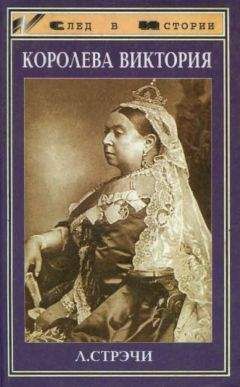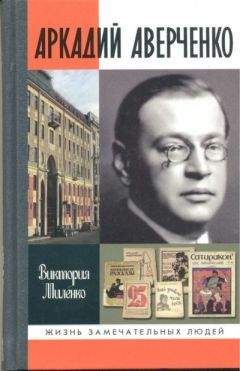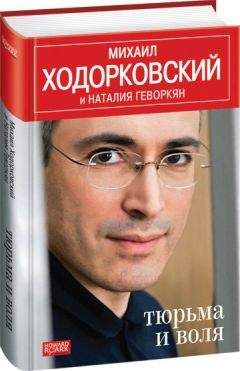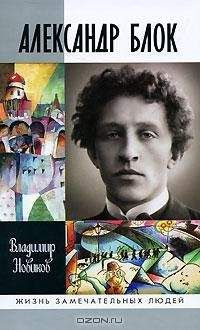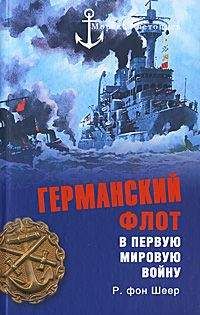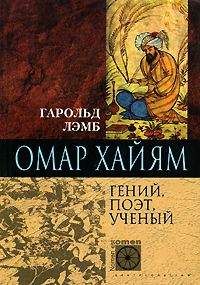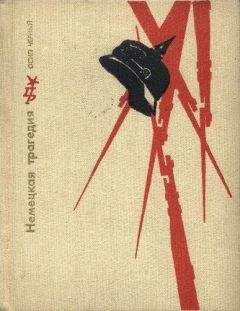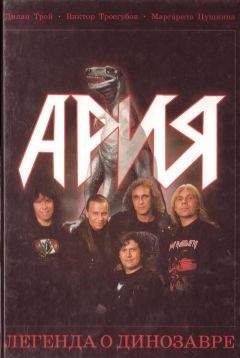Виктория Миленко - Саша Черный: Печальный рыцарь смеха

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Саша Черный: Печальный рыцарь смеха"
Описание и краткое содержание "Саша Черный: Печальный рыцарь смеха" читать бесплатно онлайн.
Саша Черный (1880–1932), знаменитый сатирический поэт, по одним оценкам — «безнадежный пессимист», по другим — «детская душа». Каким был этот человек, создавший язвительную картину своей эпохи и вдруг развернувшийся к противоположным жанрам? Что заставляло его бросаться от сатиры — к лирике, от революционных манифестов — к религиозному миссионерству, от ядовитых политических памфлетов — к стихам для детей? По каким причинам он ушел из процветающего журнала «Сатирикон»? Отчего сторонился людей, хотя в круг его общения входили Куприн, Аверченко, Горький, Чуковский, Маршак? Почему всю жизнь искал «вершину голую»? Как вышло, что он прошел всю Первую мировую войну, а в решающие дни 1917-го оказался в Пскове, эпицентре переломных для державы событий?.. Виктория Миленко, кандидат филологических наук, представляет на суд читателей первую попытку полного жизнеописания поэта, где обозначены и творческие, и географические вехи его пути: Одесса, Белая Церковь, Житомир, Петербург, Гейдельберг, Псков, Вильнюс, Берлин, Рим, Париж и наконец Прованс — желанная ему «вершина голая».
знак информационной продукции 16 +
Саша и Мария Ивановна вернулись в Петербург не позднее 17 января. Дата устанавливается точно, так как поэт писал, что сразу же по приезде «пошел на Андрея Белого». Лекция Белого «Настоящее и будущее русской литературы» была прочитана в зале Тенишевского училища именно 17 января 1909 года. Вслушиваясь в затейливые речи Белого и не понимая ни слова, Саша все отчетливее осознавал, что финская сказка отходит в небытие, а жуткий Петербург снова становится реальностью: «…я встал и тихонько вышел, купил на улице „Биржевые“ и, прижимаясь к домам, ежась и закрывая глаза, пошел с ужасом домой» («Опять», 1909).
«Ужаса» в стихах Саши Черного и в прошлом году было немало:
О, дом сумасшедших, огромный и грязный!
К оконным глазницам припал человек:
Он видит бесформенный мрак безобразный…
Или:
Восемь месяцев зима, вместо фиников —
морошка.
Холод, слизь, дожди и тьма —
так и тянет из окошка
Брякнуть вниз о мостовую одичалой
головой…
В этих и других «ужасных» стихах поэта всегда присутствует герой, на которого мы впервые обратили внимание еще в 1906 году, — «нищий духом» пореволюционный сдавшийся интеллигент:
«Я жених непришедшей прекрасной невесты,
Я больной, утомленный урод».
«Ужас» этот наплывал и в новых стихотворениях:
В зеркало смотрю я, злой и невеселый,
Смазывая йодом щеку и десну.
Кожа облупилась, складочки и складки,
Из зрачков сочится скука многих лет.
Кто ты, худосочный, жиденький и гадкий?
Я?! О, нет, не надо, ради Бога, нет!
Иногда Саша Черный дерзал говорить «мы», обобщая опыт целого сонма «нищих духом»:
Где событья нашей жизни,
Кроме насморка и блох?
Мы давно живем, как слизни,
В нищете случайных крох.
Спим и хнычем. В виде спорта,
Не волнуясь, не любя,
Ищем Бога, ищем черта,
Потеряв самих себя.
Это «мы», проецируемое на некое целое, подразумевает включение в общий ряд и самого автора. Выше мы говорили о том, что успех Саши Черного объясняется точным соответствием его творчества определенным умонастроениям значительного количества читателей. Не углубляясь в эту тему, попытаемся объяснить феномен популярности поэта категориями, которые никогда ранее к нему не применялись, а именно тем, что он являлся «голосом поколения» 1900-х годов. Кто-то обвинит нас в том, что мы передаем Саше Черному титул Александра Блока. Ни в коем случае! Просто Блок и Черный — это разные «голоса». Если отважиться на более близкие нам по времени аналогии, то между ними приблизительно та же разница, что существовала в протестные 1980-е годы между Борисом Гребенщиковым и Виктором Цоем. Первого называли «богом», и ценители его поэзии составляли круг интеллектуально-посвященных эстетов. Второго окрестили «человеком мостовой», и доступность его ироничной и незамысловато-наступательной философии стяжала ему популярность тысячекратно большую, нежели кому-либо другому из поэтов тех лет. Саша Черный, подобно Виктору Цою, был понятен и осязаем. Переклички в творчестве этих двух авторов (которых мы осмелились сравнивать исключительно в разрезе определенной проблематики!) удивительны. Попробуйте угадать, кому из них принадлежат эти строки:
Каждое утро снова жизнь свою начинаю
И ни черта ни в чем не понимаю.
……………………………………
Я, лишь начнется новый день,
Хожу, отбрасываю тень с лицом нахала.
Наступит вечер, я опять
Отправлюсь спать, чтоб завтра встать.
И все сначала.
А эти?
Напялил пиджак и пальтишко
И вышел. Думал, курил…
При мне какой-то мальчишка
На мосту под трамвай угодил.
Сбежались. Я тоже сбежался.
Кричали. Я тоже кричал,
Махал рукой, возмущался…
Первый текст Виктора Цоя, второй — Саши Черного, а герой в них тот же. Похожее время рождало похожее творчество. Достаточно сказать, что мотив болезни, свойственный тогда для Черного, во многом определял проблематику молодежной протестной поэзии 1980-х годов. Например, у того же Цоя: «Мама, мы все тяжело больны, / Мама, я знаю, мы все сошли с ума!» («Мама», 1988). Или у Ильи Кормильцева: «…Оставь безнадежно больных, / Ты не вылечишь их, и в этом все дело» («Доктор твоего тела», 1987). И разумеется, в «Палате № 6» (1984) Александра Башлачева, герой которой, разбивая лоб о табу и запреты, сдается: «Спасибо главврачу / За то, что ничего теперь хотеть я не хочу. / Психически здоров. Отвык и пить, и есть. / Спасибо. Башлачев. Палата номер шесть». Не нужно уходить в постмодернистские дебри, чтобы услышать и понять крик души молодого человека, не находящего пути для применения своих сил и реализации творческих потенций. То же чувствовала молодежь эпохи модерна, подросшая к 1909 году и с завистью смотрящая на тех, кто успел проявить себя в 1905-м. То же чувствовали и «те, кто успел», отчетливо понимая, что 1905 год вряд ли возвратится. Эту неприкаянность, изрядно приправленную самоиронией, и удалось точно выразить Саше Черному. Однако между ним и вышеназванными «советскими» авторами есть существенное различие: те творили вне конъюнктуры и за свои стихи не получали денег (сначала). «Сатирикон» же был вполне дитя капиталистического общества, организм, учитывавший критерии спроса.
В какой мере сам Саша Черный мог ощущать себя «больным, утомленным уродом», живущим подобно слизню? Мы затрудняемся сказать, что, собственно, такое ужасное и трагическое могло происходить в его жизни в это время. У них с Марией Ивановной всё было в порядке. Он — популярный поэт, она — уважаемый преподаватель. О каких еще далях могли мечтать эти двое? Да, историко-политический фон был невеселым: послереволюционные репрессии в России, страшное землетрясение в Мессине, возвращение во Франции казни через гильотинирование. Однако что из этого? Столетие спустя наши потомки, изучая информационные источники, будут удивляться, как мы вообще жили, принимая во внимание терроризм, киллеров, птичий грипп и падение метеоритов. Подобный взгляд на реалии «столыпинской» эпохи мог существовать в советском литературоведении, не знакомом с информационными технологиями капиталистического общества, но никак не сегодня. Сто лет назад пресса нагнетала страсти так же, как и сейчас, и тот же «Сатирикон» в выборе тем руководствовался отнюдь не личными предпочтениями его авторов, а конъюнктурой. Писали о том, что продавалось. Писали так, как продавалось. Если хорошо продавались пессимизм и суицид, то отчего бы их и не продать? По нашему мнению, «сплин» и «нафталин» Саши Черного — это его очередная роль, маска, такая же, как трагический грим Пьеро на лице Вертинского, который в жизни отнюдь не был меланхоликом. Это мода, отвечавшая болезни эпохи, а возможно, даже издевка над ней. Достаточно вчитаться в известное Сашино стихотворение «Молитва» (1908), последнюю строфу которого цитируют очень часто. В ней герой просит Создателя об устройстве своей посмертной судьбы:
Дай мне исчезнуть в черной мгле, —
В раю мне будет очень скучно,
А ад я видел на земле.
Разве можно принимать ее всерьез, учитывая общую ироническую, даже ёрническую интонацию всего стихотворения? И начинается оно с пародии на лермонтовскую «Молитву» («Не обвиняй меня, Всесильный…», 1829), и сакральное в нем щедро перемешано с земным. Если это беседа с Богом, то почему герой ведет ее «с блаженной миной»? При чем здесь Третья дума, куда он, к счастью, не взят, и всё остальное? Да и последняя строфа, по нашему мнению, тоже пародия, истоки которой на поверхности. Это плевок в сторону декадентов, и, бросая пафосные слова о мгле и рае, автор сам над ними смеется. «Молитва» — очередная скоморошина Саши Черного, но никак не философское послание или «завет», как ее сегодня трактуют. Достаточно сказать, что в первой публикации в газете «Утро» стихотворение называлось «Благодарность Аллаху», то есть и название комически обыгрывало фразеологизм «слава Аллаху!». Эту авторскую игру и в то время мало кто понял, почему и случился инцидент с Корнеем Чуковским, о чем рассказ впереди.
Была тем не менее одна тема, касаясь которой Саша Черный ничуть не притворялся. В первых числах февраля 1909 года он рассказал читателям «Сатирикона» о своей мечте:
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Саша Черный: Печальный рыцарь смеха"
Книги похожие на "Саша Черный: Печальный рыцарь смеха" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Виктория Миленко - Саша Черный: Печальный рыцарь смеха"
Отзывы читателей о книге "Саша Черный: Печальный рыцарь смеха", комментарии и мнения людей о произведении.