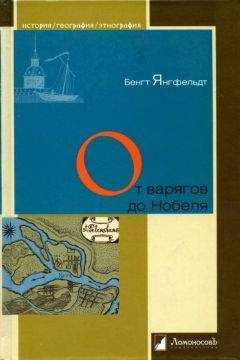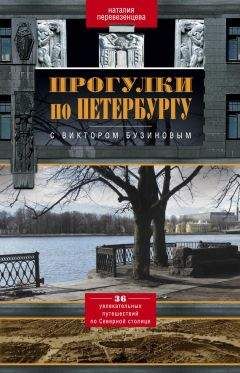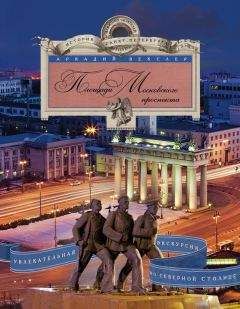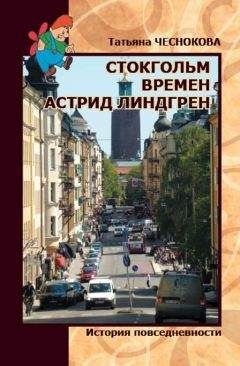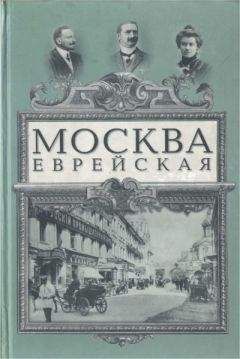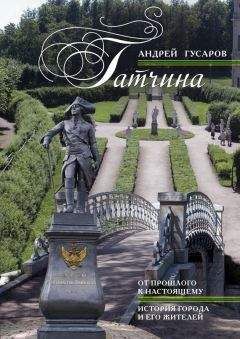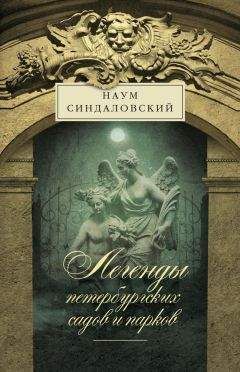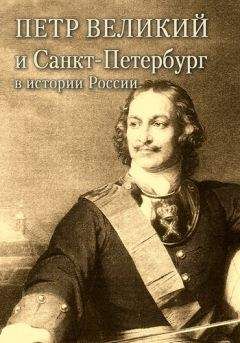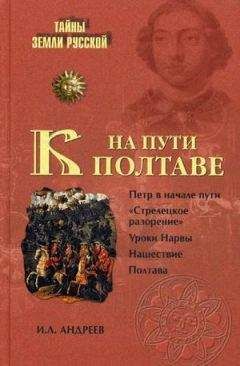Сергей Ачильдиев - Постижение Петербурга. В чем смысл и предназначение Северной столицы

Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.
Описание книги "Постижение Петербурга. В чем смысл и предназначение Северной столицы"
Описание и краткое содержание "Постижение Петербурга. В чем смысл и предназначение Северной столицы" читать бесплатно онлайн.
Это — книга-размышление о Петербурге. В чем смысл и предназначение Петербурга? Зачем он был основан и почему именно здесь, в самом устье Невы? Какова роль этого города в истории России, его место в Европе и мире? Как со временем трансформировались образ и характер Северной столицы? Каким на протяжении разных эпох представлен Петербург в литературе, живописи, музыке и каким его видели сами жители? Каково значение интеллигенции для становления городского самосознания? Что такое «петербургский стиль»? Какое будущее ожидает вторую столицу России? Таков круг основных тем, затронутых автором. Без преувеличения эту работу можно расценить как продолжение знаменитой книги Николая Анциферова «Душа Петербурга» (1922). Издание адресовано всем, кто интересуется историей России и Северной столицы.
Впрочем, в данном случае интересней иное: фраза Альгаротти, на которую ссылается Пушкин, в действительности звучала несколько иначе и вовсе не столь афористично. «Русские путешествия» были написаны в форме посланий, и первые восемь из них адресованы «милорду Херви, вице-канцлеру Англии», который ещё за полтора десятилетия до того переселился в мир иной. Так вот, в начале Письма IV говорится: «И что Вам сказать вначале, и что потом — об этом Городе, об этом, скажем так, большом окнище <gran finestrone>, недавно открытом на севере, из которого Россия смотрит в Европу?» [4. С. 251].
Но Михаил Талалай в предисловии к публикации писем Альгаротти приводит не менее интересное и образное высказывание другого автора той эпохи — лорда Балтимора, которое Альгаротти, возможно, знал и решил изменить на свой лад: «Петербург — это глаз России, которым она смотрит на цивилизованные страны, и, если этот глаз закрыть, Россия опять впадёт в полное варварство» [4. С. 236].
Впрочем, ещё интересней другое — почему чужая метафора вдруг так полюбилась Пушкину, что он занёс её в тетрадь с заметками к «Евгению Онегину», а затем, спустя несколько лет, навсегда увековечил в знаменитом вступлении к «Медному всаднику»? Больше того, смысл сравнения, сделанного заезжим итальянцем, русский поэт никак не изменил. Казалось бы, в том самом вступлении к поэме — грандиозном гимне Петербургу — куда естественней была бы, скажем, «дверь», а ещё лучше «врата». Тем более при Петре существовал именно такой образ — ворота в Европу. В 1708 году Стефан Яворский в своей проповеди назвал Петербург «вратами водными царствия Российского, замком Кроншлотом крепко заключаемыми» [3. С. 68]. К тому же «именно ворота были изображены на гравированном плане Петербурга 1721–1723 гг., изданном в Нюрнберге И.Б. Хофманном. На фрагменте с “Картой течения Невы" женская фигура (Россия) открывала символические двери-ворота к Балтике, в Европу» [3. С. 68].
Однако Пушкин оставил именно «окно». Что это — случайность, ошибка гения?.. А может, этим самым «окном» поэт хотел сказать, что мечты Петра о «европейскости» его новой столицы на самом деле были глубоко русскими и потому претендовать на большую роль Петербург попросту не в состоянии?
Параллельные заметки. Классики русской литературы оттого и велики, что всегда предельно точны в своих определениях. Как тут не вспомнить хрестоматийный чеховский афоризм про то, что надо по капле выдавливать из себя раба! Не привычными на Руси ёмкостями — стопками, стаканами, вёдрами, а только капля за каплей. Потому что в этом необычайно трудном деле результата можно достичь лишь в ходе долгого, мучительно долгого процесса. В чём все мы на собственном опыте и убеждаемся в последние два с лишним десятилетия.
Действительно, задачи в отношении Европы, которые ставил Пётр перед своим детищем, остались невыполненными. Начать с того, что северная столица не превратилась в крупный торговый порт, во всяком случае, по европейским меркам. Во-первых, как уже говорилось, фарватер был слишком мелким и к тому же с ноября по апрель покрывался льдом. А во-вторых, торговать России было, по сути, нечем, она всегда в основном служила сырьевым придатком Запада. В 1724 году, уже незадолго до смерти, «Пётр с гневом писал, что русские купцы, приехав в Стокгольм, торгуют перед королевским дворцом, к стыду России, только деревянными ложками и орехами! И ради этого было пролито море крови на войне? <…> русских торговых кораблей в Европе не видели фактически до екатерининских времён, т. е. ещё лет пятьдесят.» [5. С. 383]. Правда, в начале XIX века Петербургский порт на Стрелке Васильевского острова всё же стал крупнейшим в России, на его долю приходилось около половины всего грузооборота страны. Но «главными статьями экспорта <по-прежнему> были: хлеб, железо, оружие, лён, пенька, поташ, верёвки, канаты и т. д.» [9. С. 289].
Да и назвать Петербург в полном смысле слова европейским городом тоже было нельзя. «Со времён Петра Россия, обратив взоры на Европу, стала считать себя как бы её провинцией, а Европу — своей столицей, — писал Николай Мельгунов, известный публицист, помощник Герцена по эмигрантской издательской деятельности. — Справедливость этого замечания нигде так не ощущается, как в Петербурге. В нём все тянутся за Европой и её жизнью, как провинциалы за жизнью столичного города» [19. С. 227].
Такого рода провинциализм в сочетании с внешним, вполне западным лоском долгое время придавал Петербургу черты пародии на Европу. Ведь хотя Пётр и переодел своих подданных, прежде всего жителей новой столицы, в европейское платье, исподнее-то всё равно сохранялось азиатское. Как с сарказмом заметил в «Зимних заметках о летних впечатлениях» Фёдор Достоевский, «нам легко давалась Европа, физически, разумеется. Нравственно-то, конечно, обходилось не без плетей» [13. Т. 5.
С. 56–57]. А много лет спустя другой петербуржец, Александр Городницкий, написал:
Не первый век и не последний год
Среди пастушек мраморных и граций
Здесь русская трагедия идёт
На фоне европейских декораций [11. С. 113].
Параллельные заметки. Отмечая эту особенность северной столицы, иные исследователи почему-то воспринимают её как некую константу, которую нельзя будет переломить никогда. Вот, в частности, мнение нашего современника Владислава Бачинина: «…внутренняя раздвоенность-распятость в высшей степени присуща Петербургу. В первую очередь он распят пространственно между Европой и Азией, Западом и Востоком. А эта географическая маргинальность с неизбежностью переходит в раздвоенность культурную, психологическую, ментальную. Сколь ни походил Петербург внешне на европейские города, ему всё же не дано было стать истинно европейским городом, как того хотели русские западники. И причина этому только одна: он населён в большинстве своём русскими, которым никогда не стать европейцами. Его жители, в том числе его художники, композиторы, писатели, поэты, философы, принадлежат к иной, чем европейская, цивилизации, обладающей своими неподражаемыми особенностями» [6. С. 29–30].
Почему нам ««никогда не стать европейцами» и отчего мы на веки вечные обречены принадлежать к ««раздвоенно-распятой», маргинальной цивилизации, объясняется лишь тем, что такова данность, предопределённая нам географическим положением страны, в том числе Петербурга. При этом забывается, что в современном мире географический фактор на наших глазах уже теряет свою первостепенную важность, характерную для прежних веков, и уступает место иным, которые объединены понятием ««глобализация».
Да, Россия уже неоднократно пробовала привить основу европеизма на тот дичок западной атрибутики в государственной и повседневной жизни, который вырастил Пётр I. Причём во всех пяти случаях Петербург оказывался главной — или одной из главных — сцен, на которой свершалась попытка поворота страны в сторону Европы. В 1730 году — когда «верховники» во главе с князем Дмитрием Голицыным пытались, ограничив самодержавие, ввести конституционную монархию. В декабре 1825 года — когда произошло восстание на Сенатской площади. В 1860-е и последующие годы — когда разворачивались Великие реформы. Весной и летом 1917 года — после Февральской революции. И, наконец, в августе 1991 года — когда сотни тысяч ленинградцев, поддержав москвичей, в едином порыве заполонили Исаакиевскую площадь и прилегающие улицы, выступив против ГКЧП и за демократизацию России.
Первые четыре попытки закончились полной неудачей, пятая — частичной, потому что, как бы ни возмущалась оппозиция порядками в стране и при Ельцине, и при Путине, и при Медведеве, а затем снова при Путине, всё же мы сегодня живём не в пример свободнее, чем наши предки на протяжении предыдущих трёх столетий.
В тех четырёх случаях государственная власть неизменно оказывалась сильнее. А ей Петербург был нужен именно как окно в Европу, и не более того. Этот город, по едкому замечанию Михаила Салтыкова-Щедрина, «имеет форму окна в Европу, вырезанного цензурными ножницами» [24. Т. 12. С. 395]. Его можно было украсить игривыми занавесочками или, наоборот, решёткой. В тёплую погоду приоткрыть для проветривания, а в морозы — плотно закрыть, законопатить все щели и для надёжности захлопнуть ставнями или, по-тюремному, намордником.
Уже упоминавшийся маркиз Астольф де Кюстин, посетив Петербург ровно через сто лет после Альгаротти, с убийственной точностью аттестовал суть российской государственности: «Воспользоваться всеми административными достижениями европейских государств для того, чтобы управлять на чисто восточный лад шестидесятимиллионным народом, — такова задача, над разрешением которой со времён Петра I изощряются все монархи России» [17. С. 152].
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Постижение Петербурга. В чем смысл и предназначение Северной столицы"
Книги похожие на "Постижение Петербурга. В чем смысл и предназначение Северной столицы" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Сергей Ачильдиев - Постижение Петербурга. В чем смысл и предназначение Северной столицы"
Отзывы читателей о книге "Постижение Петербурга. В чем смысл и предназначение Северной столицы", комментарии и мнения людей о произведении.