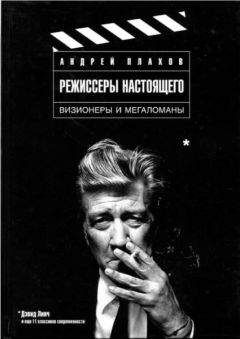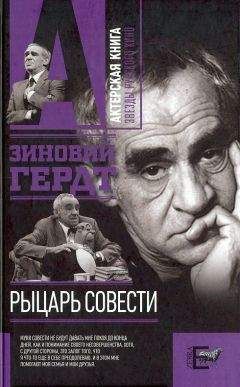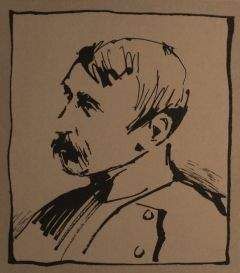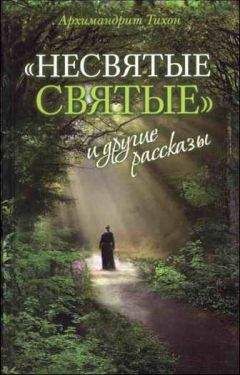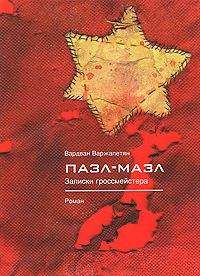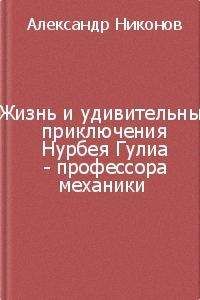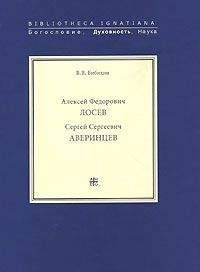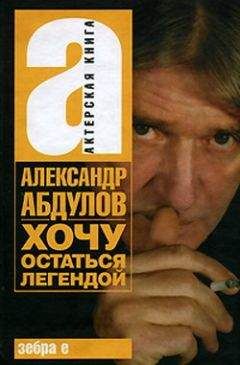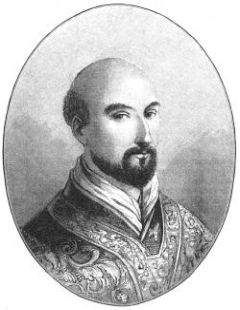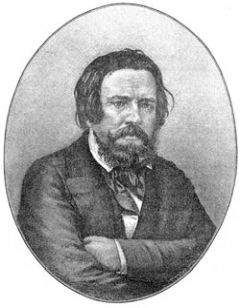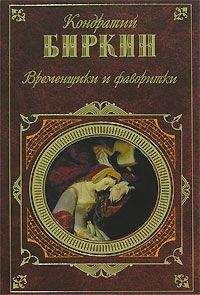Александр Етоев - Книга о Прашкевиче, или От Изысканного жирафа до Белого мамонта

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Книга о Прашкевиче, или От Изысканного жирафа до Белого мамонта"
Описание и краткое содержание "Книга о Прашкевиче, или От Изысканного жирафа до Белого мамонта" читать бесплатно онлайн.
В одной из своих бесед с Борисом Натановичем Стругацким я спросил, как он относится к писателю Геннадию Прашкевичу. БНС ответил мне так: «С кем сравнить Геннадия Прашкевича? Не с кем. Я бы рискнул добавить: со времен Ивана Антоновича Ефремова — не с кем. Иногда кажется, что он знает все, — и может тоже все. Исторический роман в лучших традициях Тынянова или Чапыгина? Может. Доказано. Антиутопию самого современного колёра и стиля? Пожалуйста. Вполне этнографический этюд о странном житье-бытье северных людей — легко, на одном дыхании и хоть сейчас для Параджанова. Палеонтологические какие-нибудь очерки? Без проблем! Фантастический детектив? Ради бога! Многообразен, многознающ, многоталантлив, многоопытен — с кем можно сравнить его сегодня? Не с кем! И не надо сравнивать, пустое это занятие, — надо просто читать его и перечитывать».
Несколько лет назад мы с Александром Етоевым, готовясь к семидесятилетию Геннадия Мартовича Прашкевича, коренного сибиряка, одного из старейших отечественных фантастов, поэта, переводчика, историка фантастики, решили сделать подарок нашему большому (он ведь под два метра ростом) другу. И написали к юбилею Мартовича странную книгу, каждая глава которой посвящена определённому периоду жизни этого замечательного писателя. Начинаются главы с моих разговоров с Геннадием Прашкевичем, а заканчиваются вольными комментариями Александра Етоева.
Владимир ЛАРИОНОВ
На этом Шуркина фантазия иссякла.
— У тебя пожевать ничего нет?
— Откуда? Меня же с урока выгнали.
— Ладно, — пообещал Шурка. — Пожуем в пригородном.
Мне его обещание почему-то не понравилось.
— Чего это мы пожуем в пригородном?
— А что в руки попадет.
Мы помолчали. На тормозной площадке, как на штурманском мостике. Но зачем Шурка искал меня? Почему ничего не говорит? Ну, стал тот мужичонка сосной, а потом что?
— Да так, — неохотно покивал Шурка. — Лет через пять кореш снова заглянул в лес, а от той сосны только пень остался.
— Неужели спилили?
— Под корень.
— Лесозаготовители?
— Ага. Бензопилой «Дружба». Кореш посидел с ними, выкурил папироску. А избушку они срубили из того мужичонки. Говорить ничего не стал, но, когда уходил, дверь ему так поддала, что улетел в траву.
— И все?
— Какое все! — обрадовался Шурка. — Эта дверь там вообще на всех тянула».
Володя Ларионов, мужик серьезный, к тому же опытный классификатор литературы, обозначил тематическую принадлежность романа «Теория прогресса» выражением «мемуарно-ностальгический». Типа воспоминания со слезой. Про слезу я упомянул выше, и это правильная слеза, светлая, чистая и скупая, и катится она по мужественной щеке. Опять же, слезы прочищают слезный канал, а это очень полезно для организма. Насчет «мемуарно»… Здесь Володя прав лишь отчасти… «Мемуарность» в данном случае литературный прием. Как фантастика в лучших ее проявлениях.
Вообще любую художественную книгу о детстве формально можно назвать книгой воспоминаний. Даже «Тома Сойера» с «Геком Финном», ведь как-никак, а юность автора этих книжек тесно связана с Миссисипи, и опыт жизни на великой реке пришелся кстати, когда он их писал.
На самом деле все, рассказанное писателями о своем прошлом — детстве, отрочестве, юности, человеческом (или нечеловеческом) окружении, событиях неважных и важных, — всего лишь версия описываемых событий, их реконструкция. С учетом провалов в памяти, нежелания выгребать мусор из переполнившейся за годы корзины, преломления зрительного луча в линзе вод океана Времени, наконец, мюнхгаузенского лукавства. Приврать о прошлом, сделать его игрушечным, окрасить всполохами личных обид, понизить рост верзилы Залупина, второгодника из пятого «бэ», вечного твоего мучителя, наоборот сделать себя высоким, выше Александрийского столпа, — в литературе это бывает запросто.
Со всеми вытекающими последствиями.
Надежда Мандельштам рассоривается с Эммой Герштейн. Ахматова люто ненавидит умницу Георгия Иванова за его блестящие розыгрыши, оформленные в виде воспоминаний.
И так далее и тому подобное.
Приврать в литературе не грех. Особенно — весело и красиво.
Вымысел убеждает больше, чем сухие протокольные факты.
Правда вымысла чрезвычайно интересная штука.
Вот Платон выдумал свою Атлантиду, и сотни легковерных бездельников погружаются в пучину морскую, чтобы выловить золотую рыбку и обессмертить свое смертное имя.
Или тот же Михаил Афанасьевич, поселивший в центре Москвы на Садовой улице черт те знает какую нечисть, — знал ли он, что толпы придурков, убежденные в реальности вымысла, ежегодно в дни весеннего полнолуния будут околачиваться у двери квартиры под номером 50 и прислушиваться немытым ухом к разговорам инфернальных котов.
И те бездельники и эти придурки абсолютно убеждены в том, что все, созданное великими фантазерами, — отражение реальных событий.
О великая сила искусства! Так говаривал, кажется, то ли Гёте, то ли Виктор Драгунский, вечный им обоим респект!
Лично я, потому что фома неверующий, смотрю на это дело по-вепски, отстраненно и без эмоций. Или как добрый Вяземский Петр Андреевич: «Иные думают, что кардинал Мазарини умер, другие, что он жив, а я ни тому, ни другому не верю».
Постоянное общение с прошлым, прислушивание к его тающим голосам, преображение его силой воображения, — дело для искусства обыкновенное.
Сказал Катенин, русский поэт:
И на крылах воображенья,
Как ластица, скиталица полей,
Летит душа, сбирая наслажденья,
С обильных жатв давно минувших дней.
И у Прашкевича в романе о том же:
«Странно все-таки. Литература не археология, но мы постоянно возвращаемся к прошлому. Приостановить движение облаков, течение рек, дуновение ветра, вернуть засохшему цветку запах. Изобретение сверхмощного трактора или крионной бомбы неизбежно, рано или поздно будет изобретено все, что можно изобрести, но точно также рано или поздно мы потеряем живые цветы, так нас радующие, рано или поздно уйдем сами… Отец… Санька Будько… Потерявшийся где-то Бобков… Чей след останется на окаменевшей глине, на подписанном рисунке, на обрывке рукописи?.. Еще Гоголь страшился: как же так, быть в мире и ничем не означить своего существования? Ведь мы были, мы дышали, мы говорили слова друг другу…».
Я назвал страницами выше «Теорию прогресса» новым «Воспитанием чувств».
Не только знания делают из прямоходящей особи человека, не только то, что наработано руками и серым веществом мозга. Голова профессора Доуэля, конечно, ценное приобретение для человечества. И мышцы римского атлета также в жизни дело немаловажное. Но есть такое отживающее понятие как сила сердца, или правда души. Душа же это существо деликатное, она не лезет без очереди к окошку, где продают билеты в Страну счастливых. Она тихонечко жмется к сердцу и помогает утишить боль.
Сердце наше ведает чувствами, душа лечит его и не дает ему остынуть и превратиться в лед.
Ленька Осянин, герой романа, все время приглядывается к себе. Почему, не может понять Осянин, все как все, у всех все нормально, а за что ни возьмется он, окружающие считают дуростью. А что ни скажет, считают глупостью. Сочинение стихов, увлечение астробиологией, писание астрономического романа… Кроме Саньки… Санька так не считает, но Санька — друг…
Он, Осянин, понимает, конечно, что «настоящая жизнь течет только в коллективе, и каждый обязан знать столько, чтобы при случае заменить любого другого члена коллектива». И что «настоящие знающие люди должны иметь один калибр, иначе вылетишь в отходы, в отвал, и коллектив не сможет тебя правильно использовать». И что, если ты выделяешься, «как тот гвоздь, чья шляпка торчит над досками общего корабля, тот гвоздь, за который все запинаются», то рано или поздно ты будешь «смят подкованными рабочими сапогами», потому что «гвозди, вогнанные по шляпку, не дают кораблю развалиться в бурю», а тот гвоздь, который торчит отдельно, «ничего не держит, он только мешает всем».
И вообще, теория прогресса, которую вывел Санька, вытащит Осянина за уши из болота и сделает человеком правильным. Тут, конечно, надо тренироваться, например, тренировать вежливость.
«В большом городе с этим проще. Там вошел в трамвай и сразу уступил место ветхому человеку. Или слепого затащил на подножку. К чему ему ждать следующего трамвая? Где надо, спрыгнет».
И терпение. Как тренировал его маленький Иоганн Вольфганг Гёте, о чем Ленька прочитал в одной книжке. В этой книжке говорилось, что Гёте «с детства рос нервным. Пробежит рядом мышь — в обморок, заржет лошадь — описался. Врачи отказывались лечить будущего поэта, дескать, такая у него слабая конституция, пусть сам в руки себя возьмет. Тогда маленький Иоганн стал по утрам бегать на солдатский плац. Босиком или в кирзачах. Грохочут барабаны, ржут лошади, вопят трубы, а маленький Иоганн писается, но терпит».
С тренировкой души иначе. Душе на любую теорию начхать, она привыкла без теорий, интуитивно. Вообще душевный механизм штука темная. Откуда знать провинциальному школьнику, почему он сходит с ума от «непонятной, пронизывающей его боли», когда видит молодую геграфичку, свою учительницу Раису Владимировну, идущую по осенним лужам.
«Я тогда ведь еще не знал, что это нарастает душа. В пятнадцать лет мы уже обросли мышцами, а вот душа нарастает постепенно».
Это взгляд Осянина помудревшего. Подростку Леньке, чтобы это осмыслить, надо было еще поднакопить опыта. Но Ленька справился, выжил, выдержал и стал Прашкевичем, писателем и поэтом.
В точности как предсказала записка.
Образ школьной учительницы географии в романе, Раисы Владимировны Поцелуевой, или Реформаторши, как ее прозвали ученики (образ вполне реальный, см. соответствующее место в «Беседе первой»), в разных книгах Прашкевича имеет разные ипостаси.
Например, в детской повести «Трое из Тайги» это учительница Людмила Даниловна. Кольке Зырянову, школьнику-непоседе, мечтающему о путешествиях по земле и в космосе, роющемуся в почве в поисках окаменевших костей и прочитавшему в свои десять с хвостиком немало мудреных книг, именно она рассказывает о тафономии, науке, помогающей объяснить причины пропусков в геологической летописи Земли, и об Иване Антоновиче Ефремове, ее основателе.
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Книга о Прашкевиче, или От Изысканного жирафа до Белого мамонта"
Книги похожие на "Книга о Прашкевиче, или От Изысканного жирафа до Белого мамонта" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Александр Етоев - Книга о Прашкевиче, или От Изысканного жирафа до Белого мамонта"
Отзывы читателей о книге "Книга о Прашкевиче, или От Изысканного жирафа до Белого мамонта", комментарии и мнения людей о произведении.