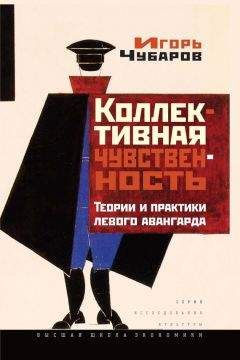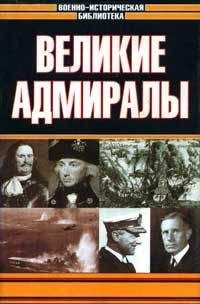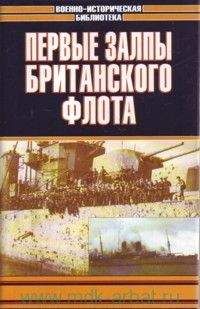Николай Евреинов - Демон театральности

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Демон театральности"
Описание и краткое содержание "Демон театральности" читать бесплатно онлайн.
Сборник произведений одной из ярчайших личностей русского Серебряного века, режиссера, драматурга, историка театра, теоретика искусства Николая Евреинова (1879–1953) включает его основные теоретические сочинения: «Театр как таковой», «Театр для себя», а также статьи: «Введение в монодраму» и «Демон театральности». Работы Евреинова сопровождают обширный комментарий и справочный аппарат.
Хорошая вышла бы пьеса! смешная, злая, а главное — правдивая.
Театрально-взыскательный человек не в силах «ходить в гости» в наше время, — его нервы не выдерживают кошмарной идентичности наших домашних «театров для себя». Его влеченье за границу, на грязный Восток, чуть не к «черту на кулички» вытекает порой из простого желания видеть вокруг себя иные одежды. И подумать только, что лет шестьдесят-семьдесят тому назад та же русская столичная жизнь представляла на тех же улицах совсем другую картину! «На главных улицах Петербурга, — рассказывает М. И. Пыляев[473], — попадались люди чисто в маскарадных нарядах; {174} в первых годах царствования императора Николая I было в живых и несколько людей екатерининского века, которые ходили по улицам в звездах, плащах и золотых камзолах с раззолоченными ключами на спине, виднелись и старые бригадиры в бело-плюмажных шляпах; немало было и таких аристократов, которые, по придворной привычке при матушке-царице, приходили на Невский с муфтами в руках и с красными каблуками… Молодые модники ходили зимою в белых шляпах и при самых бледных лучах солнца спешили открыть зонтики; светские кавалеры тех времен носили из трико в обтяжку брюки и гусарские с кисточками сапожки; жабо было у них пышное, шляпа горшком, на фраках — ясные золотые пуговицы, воротники в аршин… Лет 50 тому назад не считалось странным белиться и румяниться, и иной щеголь так изукрашивал себе лицо румянами, что “стыдно было глядеть на него”. Военные ходили затянутыми в корсет; для большей сановитости штаб-офицеры приделывали себе искусственные плечи, на которых сильнее трепетали густые эполеты. Волокиты того времени ходили с завитыми волосами, в очках и еще с лорнетом, а также и с моноклем; жилет непременно бывал расстегнут, а грудь — в батистовых брыжжах… Азиатцев в те времена на улицах Петербурга попадалось немалое количество, встречалось много и подражателей носить восточные костюмы. Из таких мнимо-восточных людей были известны — светлейший князь С‑ов, десятки лет путешествовавший по Индии, и еще другой богатый аристократ Н‑н, ex-лейб-гусар. Он щеголял в живописном наряде кавказского горца. Н‑н, как говорили, для большего сходства с настоящим представителем племени шапсугов, привил себе на лице даже коросту, присущую этому горскому племени. Немало встречалось и других подражателей кавказцам. Так, известный художник Орловский очень часто выходил из дому в наряде лезгина, с кинжалом и в папахе… Ему сопутствовали два его камердинера, из которых один желтолицый, узкоглазый калмык, в своем родном одеянии, а другой черный как смоль араб, в широких шальварах, куртке и чалме. Другой, известный граф С‑б, первый столичный щеголь своего времени, выдумывал разные костюмы. Между прочим, он изобрел необыкновенный в то время синий плащ с белыми широкими рукавами. И плащ, и рукава были подбиты малиновым бархатом». И т. д. и т. п.
Мы смеемся над мертвыми душами Манилова, Собакевича, Ноздрева, Коробочки, Плюшкина, Бетрищева, Петуха. Но ведь это же, что ни дом, то своеобразный, совсем своеобразный «театр для себя», интересный не только оригинальностью действующих лиц, но и оригинальностью режиссуры каждой отдельной жизни! Романтический театр Манилова, примитивный («солдатский») театр Собакевича, водевильно-фарсовой Ноздрева, комедийно-моральный Коробочки, историко-археологический Плюшкина, «придворный» театр Бетрищева, чисто бытовой театр Петуха — mais je ne désire pas mieux{362}! Если это «мертвые души», то что же, после их самородочной режиссуры жизни, сказать о maitteurs en scène{363} наших петроградских «салонов»?
{175} Вот уж где вовсе не приходится искать духа живого в свободно устрояющей жизнь режиссуре!.. Вот уже где мертвые души актеров, заколдованные навьими чарами Ahnfrau!
Рядом с этой загробной режиссурой, — о горечь параллели! — пленительно живой, подлинно творческой и интересной, несмотря на весь свой гнетущий и кровожадный деспотизм, кажется мне режиссура Аракчеева{364}, генерал-майора Измайлова{365}, знаменитой Денисовой, даже Салтычихи[478] {366}!..
Лучше б хотел я, живой, как поденщик, работая в поле,
Службой у бедного пахаря хлеб добывать свой насущный,
Нежели здесь над бездушными мертвыми царствовать, мертвый…
Так говорит Ахиллес Одиссею, спустившемуся в царство Плутона. И я ему сочувствую, ибо, в самом деле, что же может быть мрачнее режиссуры Плутона! Где он хозяин сцены, там не жизни, а печально-призрачные существования, не театр в полном смысле этого слова, а низшая ступень его — паноптикум, оживить который властен разве что Орфей, да и то в минуту напряженнейшей любви к утраченной подруге сцены — Эвридике!
Но многим ли из нас дано быть Орфеем в аду? власть рушить чары мертвящей режиссуры?..
Когда же это случается, какая радость, какое счастье охватывает пленников царства Плутона! — Вот вечеринка в доме осточертевшего всем, начиная с себя, чиновника Иванова, над которым тяготеют злые чары режиссуры его Ahnfrau!.. Царство Плутона, где каждая тень томится по жизни, по маскам, по лестнице к сцене, где весело грохочут котурны и самое великое {176} несчастье кажется только театральным эпизодом!.. «Веселая», в насмешку сказать, вечеринка, где гости Иванова не умирают, а уже умерли от скуки и, если движут еще руками, ногами, языком, головой, то с такой же охотой, как восковые фигуры паноптикума… И вдруг… вдруг приходит Орфей — экзекутор Милашкин, по котором так стосковались сейчас Эвридики в своих кисейных платьицах!.. Орфей двигал горами, — Милашкин мебелью, столами, роялью. Все послушно его режиссерской лире! Водворяется иной порядок предметов, иные отношения между присутствующими, они становятся «действующими лицами», каждый получает «роль», каждый превращается в другого. Ах, этот Милашкин! Чего только он не выдумает! Какую только ртуть он не вольет в самых инертных участников! Какой только кавардак, со всякими шарадами, petits jeux{367} и черт его знает какой чепухой он не властен устроить в этом склепе изжелта-белого, покойницки-солидного Иванова!.. Все словно сбрызнуты «живой водой», пляшут, хохочут, за тысячу рублей не зевнут естественно! Играют в прелестников, играют в прелестниц, играют в детей, играют как дети! Господа, чего же вам больше? — Сам Иванов улыбается! Орфей победил Плутона! — Милашкин победил Иванова! Он сынсценировал «веселую вечеринку», и она удалась на славу, на славу всем участникам и в первую голову на славу режиссера ее, этого Орфея с Песков{368}, этого обворожительного, этого в самом деле мага и волшебника Милашкина! Да здравствует Милашкин! Слава Орфею, движущему горы! Слава спускающимся в склепы Ивановых будить сонное царство теней!..
О, конечно, я не настолько наивен, чтобы требовать от каждого Иванова той же режиссерской мощи, того же режиссерского размаха, той же режиссерской фантазии, какие проявляли в свое время Рамзес II, Перикл, Клеопатра, Александр Великий, Юлий Цезарь, Нерон, Карл Великий, Савонарола, Лютер, Людовик XIV, маркиза де Помпадур, Наполеон I, Екатерина Великая и другие гении режиссуры жизни, про чьи «эпохи» мы вправе говорить с тем же чувством, с каким мы вспоминаем исторические моменты настоящего театра: «когда во главе театра стал Лентовский{369}», «во времена Кронегка{370}», «при режиссуре Макса Рейнхардта», в «эпоху Антуана» и пр.
Я и не требую невозможного. Но что Иванов должен быть по крайности Милашкиным, если он зовет не на панихиду, а на вечеринку, с этим минимальным требованием, я думаю, согласится каждый живой человек, для которого «покойницкое свысока» — жалкая дешевка домашней режиссуры, вбившей себе в бездарную голову, что скорей «празднику» следует перенимать у «будней», чем «будням» у «праздника».
Хороший повар изо всякой дряни приготовит такую прелесть, что пальчики оближешь. — Ему подобен режиссер в своем творческом отношении к «житейскому материалу». Для него любая «драма жизни», чтобы иметь право быть «представленной», должна быть прежде всего ловко досочинена в строго режиссерском отношении! Или ей грозит провал, и провал прежде всего в глазах самого автора!
Поясню примером.
{177} Ремесленные союзы, сыгравшие такую замечательную роль в истории европейской индустрии, смогли успешно процветать во время феодальных грабежей лишь благодаря монстративно-экстраординарно слаженной режиссуре. Каменщики, слесари, столяры, плотники, токари, скорняки, стекольщики, ткачи, башмачники, кузнецы, гвоздильники, шляпочники, мельники, пекари, кожевники, штукатуры, бочары, угольщики, дровосеки — все были объединены в свое время режиссерской волей, установившей единообразные эмблемы союзной жизни (наугольники и циркули), слова, знаки, рукоприкосновения, цвета лент на шляпах и в петлицах, особые палки определенной длины, символические сережки, отметины на руках и груди, а главное — обряды. Последние особенно показательно говорят о режиссуре жизни, досочиняющей ее драму.
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Демон театральности"
Книги похожие на "Демон театральности" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Николай Евреинов - Демон театральности"
Отзывы читателей о книге "Демон театральности", комментарии и мнения людей о произведении.