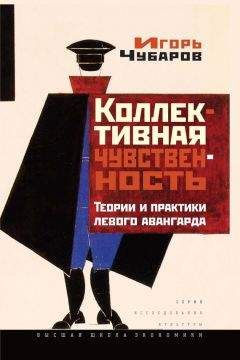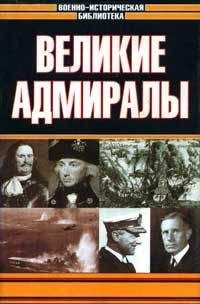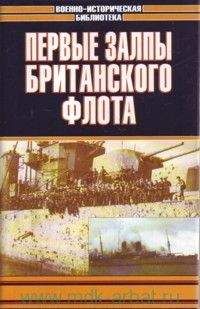Николай Евреинов - Демон театральности

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Демон театральности"
Описание и краткое содержание "Демон театральности" читать бесплатно онлайн.
Сборник произведений одной из ярчайших личностей русского Серебряного века, режиссера, драматурга, историка театра, теоретика искусства Николая Евреинова (1879–1953) включает его основные теоретические сочинения: «Театр как таковой», «Театр для себя», а также статьи: «Введение в монодраму» и «Демон театральности». Работы Евреинова сопровождают обширный комментарий и справочный аппарат.
Все это нас еще раз убеждает{139}, что, наряду с инстинктом самосохранения, половым и прочими, в нас живет столь же могучий инстинкт театральности и что вытравление этого инстинкта из народного организма равнозначаще, с высшей санитарной точки зрения, [физическому] оскоплению.
Неспособные на такую жестокость по отношению к младенцам, родители потворствуют их чувству театральности, начиная с яркого блестящего костюма кормилицы и кончая «бессмысленной» для взрослых игрушкой. Затем — резкая «перемена декораций»! — отнимается у ребенка все им любимое и прививается противный ему взгляд на жизнь. «Держись естественно, что ты ломаешься!»… Берегитесь, родители! — я верю в чудо, — что если в один прекрасный день забастовавшие дети ответят вам, полные сознания своей правоты: «но что такое воспитание в зажиточных кругах нашего общества, как не педантичное обучение роли светского, сострадательного, дельного и хладнокровного человека, т. е. роли излюбленного героя современной драмы жизни! Вы учите нас той же театральности, но она шаблонна, в ней нет места яркой индивидуальности, у нее казенный привкус, и она нам противна…» Берегитесь, почтенные родители! — Я верю в чудо. Уж слишком тяжело жить в эпоху, когда детей не хотят больше видеть, и Виктора Гюго еще меньше ценят за его «Искусство быть дедушкой»{140}, чем за истинно театральные драмы.
К счастью, не все взрослые разделяют уныние театральных сумерек. Подобно чудесным огням преображающей рампы, там и сям еще вспыхивают светочи мысли, не порвавшей уз с прекрасной театральностью.
Вспомним дедушку Рёскина{141}, эстетизация жизни которого есть, в сущности, художественная ее театрализация! Рёскина, молившегося еще в детстве не о материальных радостях, а о том, чтобы мороз не сгубил весеннего цвета нежного миндаля! Рёскина, которому безобразие жизни причиняло страдания, равные, по его словам, физическим мукам, и учившего, что {60} самая богатая та страна, в которой люди лучше всего умеют радоваться, творить и удивляться. С чисто жреческим фанатизмом он предавал анафеме все виды труда, которые не могут стать свободным творчеством красоты! «Апостол религии красоты» — что еще прибавить к такой характеристике этого благороднейшего режиссера жизни.
Здесь же уместно вспомнить о дендизме великолепного jeune premier{142} жизни — Джорджа Брайана Брэммеля{143}, голубые жилеты которого не давали покоя благородному «трагику» Байрону, утверждавшему, что он больше хотел бы быть Брэммелем, чем самим Наполеоном! — дендизме, которому «резонер» Томас Карлейль{144} уделил целый монолог в своей «философии костюма», назвав даже приверженцев сего капризного образа жизни — сектой! — дендизме, обретшем себе такого тонкого теоретика, как «благородный отец» Барбе д’Оревильи{145}, по словам которого, главная заслуга дендизма в том, что «он постоянно производит неожиданное, т. е. то, что бессилен предвидеть ум, привыкший к господству определенных правил». И Барбе д’Оревильи был не только дендистом, но и (вопреки его оговорке) самым настоящим денди, до самой смерти неразлучным в «манере жить» хотя бы со своим необыкновенным плащом на ярко-малиновой подкладке, «так как у него не было недостатка в фатовстве… а в свете каждый считает себя элегантным или стремится быть им». И влиянию дендизма подчинялось иногда само духовенство, как это было, например, по замечанию Барбе д’Оревильи, со строгим монахом Жервезом{146}, биографом Ранее{147}, оставившим нам очаровательное описание своих восхитительных костюмов, «как бы давая нам случай приобрести заслугу в борьбе с искушением, поселенным в нас жестоким желанием их надеть».
Не тот же ли дендизм, общее говоря — не тот же ли театральный инстинкт побудил «костюмироваться» и других учителей современности в эпоху сумерек театральности? побудил даже некоторых буквально обратить свою жизнь в сценическое представление?
В противном случае, что значит монашеская ряса Бальзака и его трость с бирюзовым набалдашником, красная бархатная куртка и берет Рихарда Вагнера, средневековые черные и голубые одежды [Жозефа] Пеладана{148}, костюм [короля Франции XVII в. на короле Баварии XIX в., — ] Людовика XIV на Людовике II Баварском{149}, пунцовая одежда атамана разбойников на Ришпене{150}, старинный кавалерийский наряд [Габриэля] д’Аннунцио{151}, прическа à la Neron{152} и подсолнечник в туалете Оскара Уайльда{153}, малиновая подкладка плаща д’Оревильи, красный и зеленый носок на ногах Масканьи{154} и т. п.
Конечно, отделаться по поводу этих чудачеств смешком — один из способов отделаться вообще от проблемы театральности; но я полагаю, что серьезное отношение к жизни не исчерпывается исследованием лишь того, что нам представляется серьезным. «Пустяки» и «не пустяки» вряд ли могут быть квалифицированы в качестве таковых a priori. История дает нам и здесь подходящее подтверждение! — например, Рабле умер с шутовской гримасой — «tirez le rideau, la farce est jouée!»{155}, а композитор Люлли — даже {61} в шутовской позе: лег на золу с веревкой на шее и, нагло обморочив духовенство, горланил: «il faut mourir, pécheur»{156}, пока смерть не сдавила глотки этого веселого импровизатора покаяния. Не правда ли, люди не занимаются «пустяками», когда сознают свой последний час?
И для меня не «пустяки», например, такие исторические данные, как любовь Апеллеса{157} и Зевксиса{158} наряжаться какими-то фантастичными царями или невозможность для Гайдна сочинить хотя бы менуэт без того, чтоб не облечься в тот сложный придворный наряд, который, казалось бы, должен был лишь служить помехой свободному творчеству.
Сопоставляя такие «пустяки», начинаешь как-то особенно ясно понимать идею Уайльда о долге человека самому стать произведением искусства, — идею, несомненно, навеянную Флобером, утверждавшим, что «искусство выше жизни», что «человек ничто, произведение все», и оценивавшим себя, как какую-то художественную мозаику: «я что-то вроде арабески наборной работы: есть куски из слоновой кости, золота и железа, некоторые из крашеного картона, одни из бриллиантов, другие из жести».
Самому стать произведением искусства!.. Не этот ли строго театральный императив побуждал грека ставить в комнате жены статую Гермеса или Феба, дабы она рождала детей, подобных произведениям искусства, и не тот же ли императив обусловил побеги мальчиков в Америку Майна Рида, сыск à la Шерлок Холмс, самоубийства à la Ролла{159} или Вертер{160}, поступление в разбойники по образу шиллеровских и пр.
Лишенные таланта разыгрывают роли, сочиненные другими, одаренные же им воплощают в жизни плоды своей фантазии, как, например, Гюисманс, живший многогранною жизнью своего Дез-Эссента{161}, или Бальзак, воображавший себя близким другом никогда не живших Гранвилей{162}, д‑ра Бенаси{163}, барышни Кормон{164} и даже считавший мир реальный за неинтересный вымысел: «все это так, мой друг, — сказал он однажды приятелю, сокрушавшемуся о болезни родной сестры писателя, — но вернемся к действительности и поговорим о Евгении Гранде».
Л. Вальдштейн в своей нашумевшей книге «Подсознательное “я”» говорит об одной писательнице, вымышленные образы которой достигали такой степени жизненности и с такой силой вторгались в сферу ее внимания, что ее собственной сознательной жизни начинала грозить опасность быть подавленной ими. «Мое лицо, — признавалась эта писательница, — казалось в зеркале чьим-то другим, и я должна была делать усилие, чтобы придать чертам своего лица обычное выражение».
Ж. д’Удин в своей книге «Искусство и жест» рассказывает об одной девушке и ее отце, которые, «хотя и вполне уравновешенные и, по-видимому, положительного образа мыслей, имели странную привычку. Они выдумывали романы или, вернее, один единственный роман, без заключения, как действительная жизнь. Они никогда не писали, продолжали его до бесконечности и вечно над ним сотрудничали. Они мысленно устанавливали характеры своих героев и во время ежедневных прогулок обсуждали житье-бытье этих воображаемых существ. Самым серьезным образом отец, {62} бывало, говорит дочери: “Ты знаешь, Жанна, Поль Летеллье скоро женится на Фернанде; родители согласны”. И Жанна вполне убежденно отвечала: “О папа, как Луиза будет ревновать, как она будет страдать…”» На свою собственную жизнь эти мечтатели, должно быть, смотрели главным образом как на жизнь «хороших знакомых» Жанны, Поля Летеллье, Луизы и других фантомов, бывших для них большей реальностью, чем они сами, скромные буржуа-наблюдатели. — И жизнь могла бы рассказать нам еще тысячи таких примеров.
«Грезы, — замечает Ж. д’Удин, — приносят нам ритмы, способные изменить наш умственный строй, т. е. равновесие нашего внутреннего расположения, с такою же силой, как события и страсти действительной жизни. До такой степени, что в свою очередь человек, привыкший всегда вибрировать под влиянием либо своих мечтаний, либо созданий других художников, привыкает к таким психическим ритмам, что сами события действительной жизни окрашиваются некоторой ирреальностью и принимают характер почти такой же субъективный, как и вымышленные ритмы, которыми он проникнут. Грезя грезу, мы, наконец, грезим и самое жизнь».
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Демон театральности"
Книги похожие на "Демон театральности" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Николай Евреинов - Демон театральности"
Отзывы читателей о книге "Демон театральности", комментарии и мнения людей о произведении.