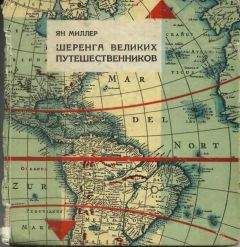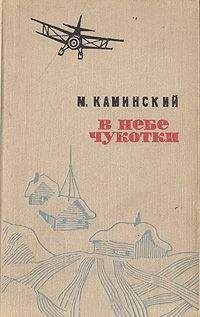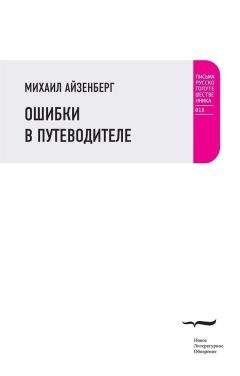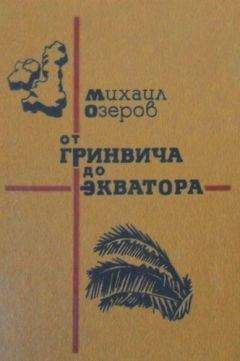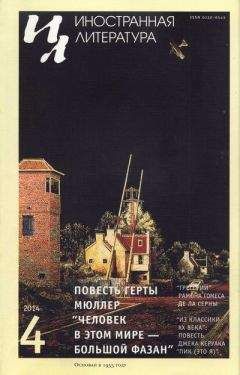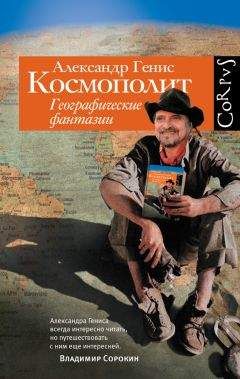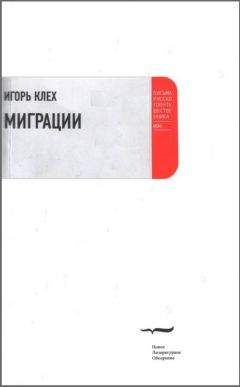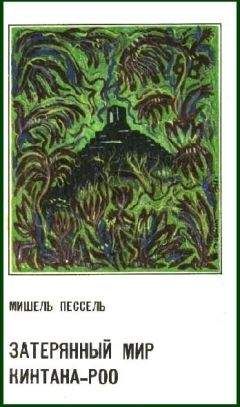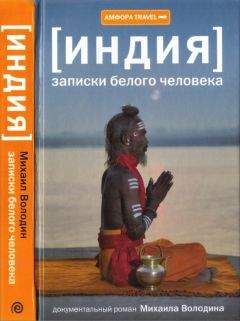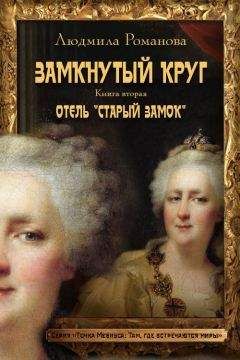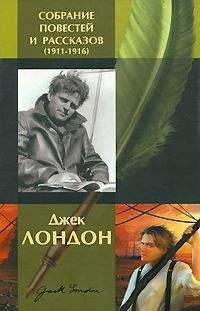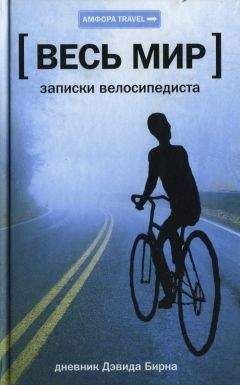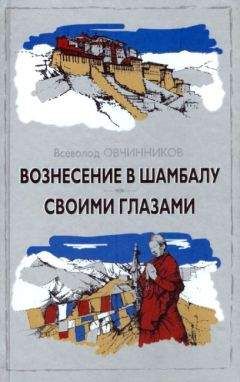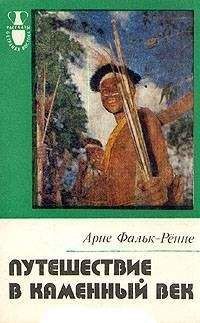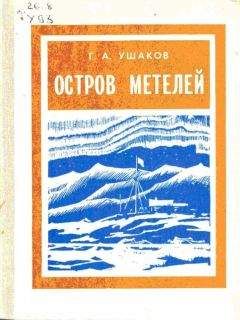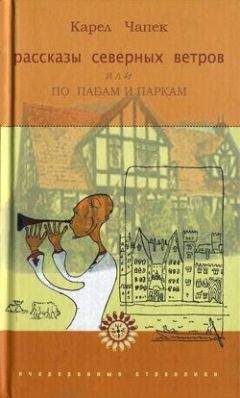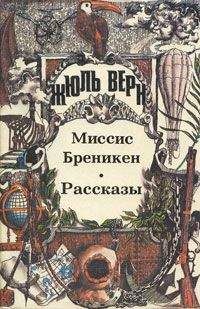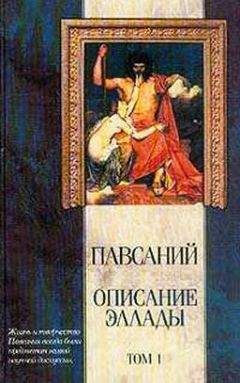Михаил Рощин - Полоса
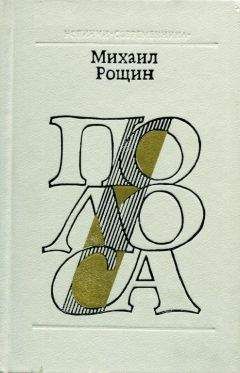
Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Полоса"
Описание и краткое содержание "Полоса" читать бесплатно онлайн.
Повесть о городских девочках-подростках, трудновоспитуемых и трудноуправляемых, рассказ о первой любви, притча о человеке, застрявшем в лифте, эссе о Чехове, путевые записки о Греции, размышления о театре и воспоминание о Юрии Казакове и Владимире Высоцком — все это вы встретите в новой книге известного советского драматурга и прозаика Михаила Рощина. Писатель предлагает читателю выделить полосу времени, для которого характерны острый угол зрения, неожиданный ракурс. Так, один из разделов книги назван «Подлинно фантастические рассказы». Они о фантастике действительности, ее сюрпризах, об осознании человеком себя личностью.
Интерес к современнику остается для М. Рощина, автора многих книг («24 дня в раю», «Река», «Южная ветка», «Рассказ и др.) и популярных пьес («Валентин и Валентина», «Старый Новый год», «Ремонт», «Эшелон» и др.), постоянным и бесспорным. Проблематика творчества писателя созвучна тем исканиям, которые ведутся в современной литературе.
Почему мы, драматурги, мало обращаем внимания на театральную критику и сама она, как правило, беспомощна и неавторитетна? Да потому, что от ее приговора ничего не зависит. Мало того, что она тоже малоправдива, и зрители привыкли к тому, что, если ругают, надо идти смотреть, а если хвалят, то и ходить нечего, — она еще и потому бесправна, что она, собственно, «посткритика», если пользоваться ее собственной терминологией, а вся настоящая критика происходит д о обнародования пьесы, не в пылу зрительских дискуссий и критических схваток, а в тиши редакторских кабинетов, и автору потом уже никогда никому не доказать, что и название у него было другое, и заключительный монолог, и герой в финале не оживал, а умирал.
Но вот пьеса отредактирована, «куплена» (при этом всем платят одинаково, и, принеси завтра Пушкин «Бориса Годунова», он получит столько же, сколько любой из нас). После этого пьеса отправляется в отдел распространения. Там, не спеша и без энтузиазма, поскольку никакого «своего» интереса у отдела нет, пьесу предлагают театрам. Кому? Каким? Да берите, кто хочет, т е п е р ь нас не касается. До востребования. На деревню дедушке.
А тем временем театр, избавившись от юного дарования, «делает» свою игру. Тут-то хорошо знают, что настоящая пьеса р о ж д а е т с я в т е а т р е. А театру срочно нужно: откликнуться на День Победы, найти вещь с «положительным героем», — для чего лучше всего подойдет инсценировка очередного премированного романа, с этим уж не будет никаких хлопот, — потом надо поставить классику, это «для души», за-ради уж самого искусства, шут его совсем забери, потом нужна еще кассовая пьеса, чтобы зритель ломился, — тут ищи без сомнения иностранную комедию и под маской разоблачения «гнилого Запада» шуруй вовсю: стреляй, носи шикарные наряды, показывай голые ножки и выше, пей виски, крути диски, весели народ!.. На все эти постановки есть свои мастера, драматурги и драмоделы, композиторы и текстовики, крепкие профессионалы, лихие циники, которые сделают тебе, что хочешь, «абы гроши».
Я еще ничего не сказал о режиссуре, а между тем настоящий, х у д о ж е с т в е н н ы й театр немыслим сегодня без хозяина, художника, который и выражает собою, и организует театральный процесс. Н о в ы е театры — такие, как Малый в свое время, МХАТ, Вахтангова, Мейерхольда, Таирова, «Современник», Театр на Таганке и другие — возникают, как правило, на гребне высокого общественного подъема, как н е о б х о д и м о с т ь. Но они не зря связаны с конкретными именами, драматургов и режиссеров: Чехова, Горького, Маяковского, Станиславского и Немировича, и тех же Мейерхольда, Вахтангова, Таирова, а сегодня — Ефремова, Товстоногова, Эфроса, Гончарова, Волчек, Плучека, Захарова, Владимирова, Фокина, Додина, Каца в Риге, Монастырского в Куйбышеве, Орлова в Челябинске — и… немногих, к сожалению, других. Эти художники, будучи сами яркими индивидуальностями, и при этом очень р а з н ы м и, имея одну общую идейную, идеологическую платформу, исповедуют и в искусстве разные стили, занимают каждый свою художественную позицию. И вполне естественно, что и драматургический материал они ищут такой, который и х удовлетворил бы или безусловно сходился с их вкусами и стилями. И как правило, свой круг авторов притягивается к каждому из этих магнитов. Казалось бы, уж этим «зубрам» нужно доверить все, поскольку уж им доверены театры. Но нет, и они часто годами бьются за постановку той или иной пьесы.
Например. Лет двадцать назад я познакомился с Людмилой Петрушевской, прочитал ее очень талантливую, хоть и печальную, пьесу «Уроки музыки». Все говорили об этой пьесе, все хотели ее ставить. Не дали. И кроме студенческого театра, она так и не пошла, пропала. С тех пор Петрушевская написала более тридцати пьес, стала притчей во языцех, режиссеры по-прежнему хотят ставить ее пьесы, — нет, нельзя. И нигде не найдешь толкового ответа: почему? Марк Захаров че-ты-ре года сдавал спектакль по пьесе Петрушевской «Три девушки в голубом», и че-ты-ре года — нельзя! Р. Виктюк поставил спектакль по Петрушевской в «Современнике», — опять нельзя! Хоть целый синклит драматургов и критиков сказали: можно. При нормальной театральной атмосфере давно бы уже выпустили эти спектакли и думать забыли, занялись бы делами более насущными. Нет, нельзя.
Или я вспоминаю, как ходили мы с молодым Александром Вампиловым вдоль улицы Горького, от театра Ермоловой до «Современника», который был тогда на Маяковке, носили за пазухой свои пьесы, стреляли у завлитов трешки на пропитание. Вампилов написал прекрасные пьесы, но он не дождался своей «поствампиловской» славы, умер. Его лучшая пьеса «Утиная охота» не разрешалась к постановке д е с я т ь лет, и только семижильное упорство и великое терпение Олега Ефремова «пробили» наконец пьесу, но десять лет спустя она уже звучала не так, как прозвучала бы в с в о е в р е м я.
Не постесняюсь сказать о себе. Я считаю себя счастливчиком, мои пьесы ставили и ставят замечательные режиссеры, в них заняты прекрасные артисты, и у нас и за рубежом. Но например, «Валентин и Валентина», которая вот уже 15 лет идет во МХАТе, была под запретом полгода, а редактировалась так, что в с е страницы были синие, могу показать.
Со «Старым Новым годом» тот же Ефремов ходил по начальству с е м ь л е т, пока поставил. «Эшелон» в «Современнике», уже готовый спектакль, не разрешали д в а г о д а. «Ремонт» в Театре сатиры был изуродован поправками и в конце концов снят. Ну и так далее. Двадцать лет назад я написал пьесу о том, как Геракл чистил Авгиевы конюшни, и никогда не забуду, как один чиновник кричал на меня и топал ногами: «Эту пьесу м ы не разрешим никогда!» Бог с ним, он уже умер, но пьеса… хотя, может быть, как раз пришла ее пора? Ничего, говорю я, все нормально[1]. И я все-таки счастливчик, потому что всегда писал то, что хотел. Хотя, конечно, один я знаю, чего мне это стоило.
Но вернемся еще раз к юному драматургу. Куда ему податься? Кому он нужен? Как ему быть?.. Превратиться в циника, кропать пьесу за пьесой, получать свои небольшие деньги, а там, бог с ними, пусть канут? Ждать?
При этом: у нас очень м а л о театров. В стране, где так выросли культурные потребности, на триста театров меньше, чем было до войны. В довоенной Москве было столько же театров, сколько сейчас, а население увеличилось чуть не втрое (а с приезжими и того больше — а они-то и мечтают попасть в столичный театр!). У нас труппы организованы так, что десятки актеров годами не работают, — пусть бы они взяли да ставили новые пьесы, п р о б о в а л и. Нет, пробовать нельзя, хотя мы так любим клеить всюду слово «эксперимент». Открыть новую студию, дать молодежи под любой крышей, в любом зальчике играть в одну из самых увлекательных игр, — в Театр и, не боясь н и ч е г о, смотреть, что вырастет, что получится, а уж тогда полоть и окучивать, — вот что нужно сегодня. Но для этого надо л ю б и т ь театр, понимать его природу, гореть его интересами, а не интересами, прямо противоположными искусству. С болью приходится констатировать: все лучшее, и боевое, и новое, что появилось у нас в театре за последние годы, — хотя бы пьесы Гельмана, с их острой публицистичностью, казалось бы, столь нужной обществу, или пьесы даже таких маститых авторов, как Розов, Айтматов, Друцэ, Дворецкий, Шатров, — все пробивали себе дорогу вопреки усилиям людей, ответственных за работу театров, а не благодаря им.
Да, зритель прав. Душа его томится неисполненными желаниями, он ищет нового и сильного впечатления и не хочет жевать позавчерашнюю жвачку. Он жаждет свежей мысли и первозданной красоты. Но, право, я хочу того же. Пусть зритель знает: мы, драматурги, хотим того же. И этим взаимным стремлениям необходимо совпасть.
Не буду замахиваться на многое и требовать немедленных и мало, может быть, реальных перестроек театрального дела (хотя, если уж перестраиваться, то смело и быстро), но попытаюсь предложить на первых порах немногое: так же как на заводе честному труженику, годами проверенному, профессионалу, дается «личное клеймо», пусть бы и профессиональным, заслужившим доброе имя драматургам и писателям, крупным режиссерам доверено было право: если уж я поставил свое имя на своей продукции, — все, никаких ОТК. Надоело.
На дальнем берегу
Несколько лет назад в Нью-Йорке Марта Коней, директор американского центра Международного института театра, познакомила меня с мистером Джорджем Уайтом, содиректором национального О’Ниловского фестиваля начинающих драматургов. Мистер Уайт, оживленный и приветливый, был очень радушен, в окна его офиса на Бродвее, выходящие прямо на Линкольн-центр, замечательное театральное сооружение города, светило весеннее солнце, и наш разговор вышел самым непринужденным и доброжелательным, вопреки той общей напряженной телерадиогазетной интонации в отношении СССР, которая так бурно брала старт в тот период. Речь шла именно о том, как, следуя здравому смыслу и уже изрядному историческому опыту, сберечь и по возможности укрепить культурные связи между нашими двумя странами — ведь, в частности, на развитие связей театральных в последние годы было затрачено так много сил с обеих сторон. Мистер Уайт деловито и конкретно предложил: приезжайте на О’Ниловский фестиваль, познакомьтесь, посмотрите, как мы работаем с нашей творческой сменой. Фестиваль, точнее конференция, соберется уже в семнадцатый раз, а русские у нас еще не бывали.
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Полоса"
Книги похожие на "Полоса" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Михаил Рощин - Полоса"
Отзывы читателей о книге "Полоса", комментарии и мнения людей о произведении.