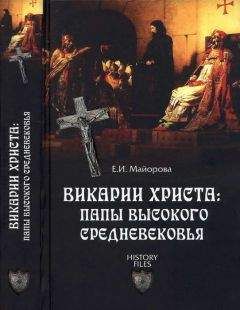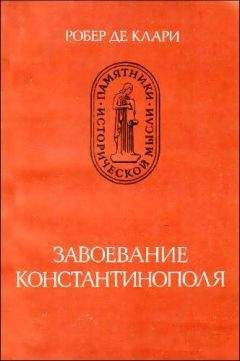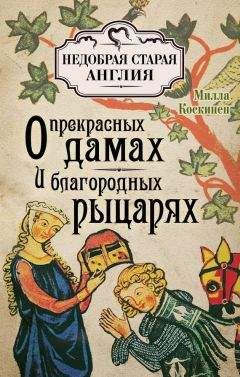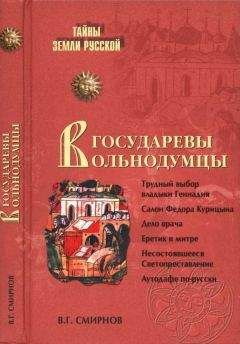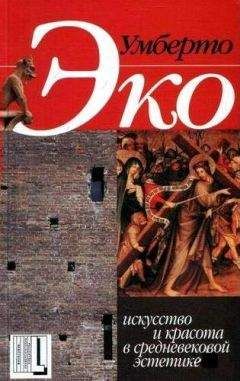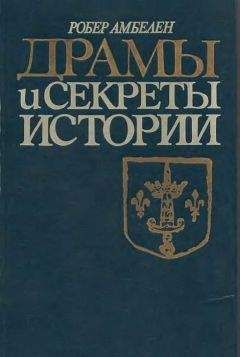Робер Фоссье - Люди средневековья
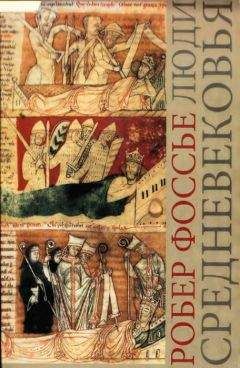
Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Люди средневековья"
Описание и краткое содержание "Люди средневековья" читать бесплатно онлайн.
На русском языке впервые выходит книга одного из самых авторитетных французских историков-медиевистов профессора Сорбонны Робера Фоссье (род. 1927) — «Люди средневековья». Эта книга — плод размышлений автора, вобравшая в себя всю полноту его исследовательского опыта и потрясающей эрудиции. На страницах своего труда Робер Фоссье создает коллективный портрет средневековых людей, вернее, портрет «безмолвствующего большинства» — простолюдинов, крестьян, ремесленников, составлявших 90% средневекового общества. Именно их автор считает главными действующими лицами той величественной эпохи, каким было средневековье. Право, война, семья, брак, окружающая среда, вера, чувства и ценности — на все это Фоссье предлагает посмотреть под иным углом зрения — глазами простолюдинов, заглянув за пределы парадных площадей средневековых городов, которые прикрывали собой «рабочие кварталы». Фоссье очищает историю средневековья от многочисленных штампов, предубеждений и мифов, сложившихся за столетия благодаря стереотипному школьному образованию и налету красочного романтизма. Робера Фоссье интересует, что средневековые люди думали о себе сами, а не что о них думают историки и политики. Его книга — настоящее разоблачение «Черной» и «Золотой» легенд средневековья, твердо заученных нами с детства. И именно это делает её чтение по-настоящему увлекательным и захватывающим.
Сниться мог только св. Бенедикт, бедствия, причиненные бурей, либо предки. Иногда в сон вдруг проскальзывали странный эпизод или необычный персонаж, и человек, проснувшись, описывал для себя это свидетельство; не факт, что в итоге такого рассказа, расшифрованного самостоятельно, сновидец не убеждал себя сам, что видел именно те или иные «чудеса», mirabilia. Сколько старались в рассказах Марко Поло или Мандевиля обнаружить долю чистейшего вымысла и более или менее сознательной лжи, ведь они утверждали, что нет ни людей, которых от снега укрывают гигантские ступни, ни единорогов, девственно чистых или каких-то иных, ни ежей, висящих на деревьях, а есть путники с плетенками на ногах, носороги и плоды с каштановой кожурой, растущие на платанах. В измышления путешественника или сновидца самопроизвольно вкрадывается некая толика априорных аналогий и порождений творческой воли. Таким образом, воображаемое питается более или менее знакомой реальностью: если в XIV и XV веках людям повсюду мерещились безобразные существа, фантастические животные или скелеты, то во многом из-за рутьеров, волков у ворот Парижа и из-за чумы. Естественно, к этим видениям добавлялся целый пласт неосознанных сексуальных побуждений — в сегодняшней психиатрической диагностике они играют решающую роль: плотские контакты, воображаемые или реализованные, занимают в наших снах исключительное место, и так было во все времена. Но на эту сферу тогда набрасывали покрывало религиозной благопристойности и религиозного страха. Рассказы, где есть какой-либо намек на эти запретные образы, встречаются очень редко — в крайнем случае могли возникать мимолетные соблазны, которые св. Антоний или любой другой отшельник сумеет преодолеть. Был, однако, случай, вероятно, менее частый или менее очевидный — сны, порожденные представлением об андрогинии. Когда и как в конце времен оба пола смешаются, их особенности исчезнут, чтобы все существа после Страшного Суда могли стать «единой плотью», подобно ангелам? Вопрос пола ангелов был коренным для судеб человечества. В 1453 г. доктора Константинополя под обстрелом артиллерии Мехмеда II пытались его решить, прежде чем сдаться неверным. А те наши современники, которые посмеиваются над подобным занятием в такой момент, ничего не поняли в последнем страхе тамошних христиан; турки же покончили с ним.
Среди «искусств» — мы имеем в виду предметы, которые преподавали в школах и о которых я еще буду говорить, — было одно, имевшее очень расплывчатые очертания: музыка. Но, очевидно, если объединить всё, что ему приписывает наш здравый смысл, для тех времен это слово следовало бы перевести как «гармония» — гармония небосвода, Природы, сверхъестественных явлений. И если я говорю об этом здесь, то потому, что вижу в этом элемент природного дара, врожденную способность улавливать требования гармонии. Несомненно, в средние века люди без труда убеждали себя, что в этом-то лучше всего и выражается воля Бога, желающего равновесия; контакт с этой очевидностью не имел никакого отношения к Слову и тем более к Писанию. От Природы узнаешь о Боге — утверждал в 1150 г. св. Бернард, сам обладатель изысканных знаний и неутомимый проповедник. Но, чтобы извлечь пользу из гармонии божественного творения, надо обладать — и это врожденное — чувством Прекрасного и склонностью к нему. В подобной сфере историк заходит в тупик. Как узнать, что тысячу лет назад человек находил «прекрасным», коль скоро это чувство, личное и интимное, ускользает от определения и тем более от классификации? У нас есть только два подхода, и оба очень сомнительны. Проповедники, хронисты и (почему бы нет?) поэты превозносили Красоту как одну из Добродетелей; но их образ мысли страдает упрощенчеством — предполагалось, что в отношении живого существа, пейзажа, творения человеческих рук «прекрасное» есть «доброе», то есть то, что нравится или старается понравиться Богу, это подношение Божеству и даже его отблеск: «добрый город» спокоен, упорядочен, деятелен, и он «прекрасен»; «добрый» рыцарь отличается смелостью, преданностью, целомудрием, и он «прекрасен». Но и другой подход не более убедителен — с помощью воспроизведений, а именно рисунков в рукописях, на фресках, холстах или скульптурных изображений на стенах; в отсутствие достоверных примеров к ним, несомненно, можно было бы добавить и сады. Так вот, здесь нас ждет разочарование: в принципе монарх на престоле, лежащая статуя сеньора на плите его гробницы, ангел Страшного Суда и даже Христос в овале церковной апсиды должны быть «прекрасны», но все они похожи — для каждого века есть характерные жесты или выражения, но отражают они лишь абстрактный идеал. Только в XIV веке наметился пересмотр соотношения «доброго» и «прекрасного», возврат к чертам реальности: можно ли счесть «прекрасными» головы статуй Карла V или Дюгеклена в Сен-Дени или в Амьене, хоть это и «добрые» люди? На самом деле совершился, без переходных стадий, переход от воображаемой красоты к суровому реализму. Неудивительно, что здесь подгадил и социальный аспект: уже на романских тимпанах простые люди были «безобразными». Единственной сферой, где можно как-то уловить склонность к прекрасному, стали изображения женщин. Это вполне понятно, поскольку художниками (как, впрочем, и поэтами) повсюду были мужчины. Выше я обмолвился о женском идеале, во всяком случае из числа самых теоретических; в последние века средневековья склонность к прекрасному все больше проявлялась в изображении не столько женского лица, еще почти всегда остававшегося стереотипным, сколько ее силуэта, например в выраженном стремлении передать хрупкость рук и ног, кажущуюся гибкость талии, значение, какое придавали форме груди и шеи; тут изображение отходит от канонов гармонии, приобретая чувственность. Мода — на облегающие одежды, впрочем, как для мужчин, так и для женщин, — делала все более важным тело, то, что она открывала, порой до неприличия, то, что она лицемерно прятала. Но когда речь идет о художнике, скорей следует искать интерес зрителя или слушателя, водивший его кистью или пером.
Последняя сфера, очень хорошо изученная в современной Франции, — это роль цвета. Она, безусловно, была существенной во внутреннем и даже в наружном оформлении зданий, в гербах, распространившихся с XII века, но прежде всего в костюмах, включая и рабочую одежду. Тщательно выяснены периоды популярности того или иного оттенка — белый, черный и красный до тысячного года, синий в XII и XIII веках, зеленый и желтый в конце средневековья, но причины этого по-настоящему нигде не указываются; впрочем, народная мудрость утверждает, что об этом не спорят, поскольку это вопрос вкуса и моды; но символический смысл красок — это область, где вклад воображения оценить трудно; зато историку бросается в глаза, что средневековье — не черное и не золотое, оно повсюду сверкает яркими оттенками, блещет всеми цветами, ставшими естественным усилителем красоты.
Мера
«Не обязательно думать, достаточно посчитать», — гласит народная мудрость. Посчитать надо еще суметь и смочь. Мало в чем наше время настолько отличается от средних веков, как в этой сфере. Для нас литр, час или километр — данности, в отношении которых обсуждать нечего, и их принял весь мир, правда, не без затруднений. Как известно, только Британские острова и некоторые территории, которыми они когда-то владели, остались верны темной, архаичной и запутанной системе, доставшейся от средних веков, — не столь важно, по каким причинам. Зато историка, столкнувшегося со средневековой системой мер, охватывает такое же ощущение царства беспорядка, произвола и иррациональности, какое британская практика вызывает у тех, кто отказался от нее. Хотя люди не рождаются с умением считать, но основы интеллекта, служащие фундаментом общества, можно отнести к врожденным чувствам. В самом деле, понятие меры — это восприятие личное или, если угодно, коллективное, но в таком случае групповое, семейное, клановое, деревенское: это одна из изначальных черт такой группы. И поэтому разрозненный характер сведений, предоставляемых источниками, побуждает каждого историка-медиевиста прилагать к своему исследованию очерк местной «метрологии», столь же путаный, сколь и бесполезный. Действительно, этот труд тем напрасней, что, как в греческие времена говорил Протагор, «человек — мера всех вещей», и эта фраза не только годится в нравоучительные изречения, но и позволяет напомнить: выражения в «футах», «дюймах», «шагах», «локтях» либо в мешках, моргах площади или в снопах не имеют никакого арифметического смысла. А если все-таки удается установить пропорции или средние величины, все равно между одной мерой зерна, именуемой «полной» (rase), и другой, «с горкой» (comble), соотношение могло составлять от единицы до двух в зависимости от того, когда, по достижении края мерки или позже, прекращается отсчет, а морг земли, обрабатываемой при помощи быка и лошади, был неодинаков. Зачем же тогда ожесточенно тыкать пальцем в грубо-ошибочные оценки, упорно полагая, что все дело тут в нечестности или невежестве? Даже на самом верху общества могли совершать огромные ошибки: в 1371 году английское правительство решило подсчитать количество приходов в королевстве, и получилось 45 тысяч, хотя их было не более 6500. И что? Этот документальный багаж бесполезен? И нужно довольствоваться определениями в актах из повседневной жизни, не говорящими почти ничего, — «моя земля», «моя десятина», «мои права пользования», либо выражениями, означающими лишь «большой», «многочисленный», «значительный», идет ли речь о домах, об умерших или о доходе? Да, несомненно, но, с точки зрения всех этих невежественных или ученых людей, число само по себе ничего не значило; это только творение Бога, и его нельзя оспаривать, уточнять, а тем более искажать в том виде, в каком оно предстает; в таком случае неверный подсчет — это оскорбление Творца, почти кровавое преступление. Кроме того, коль скоро число сакрально, то это еще и знак власти — конечно, Бога, но при надобности и короля, князя либо, скромнее, сеньора или города. Обнародованное или нет, но изменчивое и персонализированное, оно также представляет собой символ, и этим объясняется, почему не всегда пытались определить его счетное значение. На сей раз послание из древности, более или менее христианизированное, становится важней численного значения: цифре один, выражению божественного единства, соответствует триада, какая еще до христианской Троицы имелась в египетском или ведическом пантеоне; четыре — число геометрического совершенства, число небесного Иерусалима, Храма и дома Бога; семь — число Бытия и еврейского календаря, хотя при этом и длительность недели. Что касается шести, это означает «много», поскольку больше того, что можно посчитать по пальцам одной руки: шесть спутников, шестьдесят кораблей, 600 убитых, 6000 душ, или то, чего даже и не счесть, — шестью шесть, равное тридцати шести.
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Люди средневековья"
Книги похожие на "Люди средневековья" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Робер Фоссье - Люди средневековья"
Отзывы читателей о книге "Люди средневековья", комментарии и мнения людей о произведении.