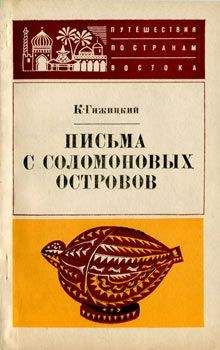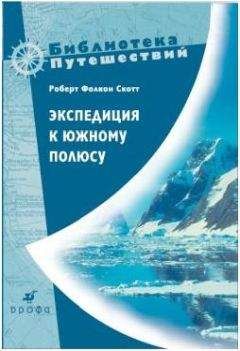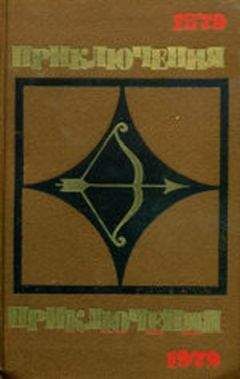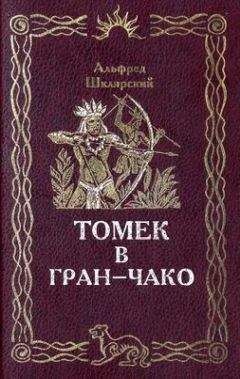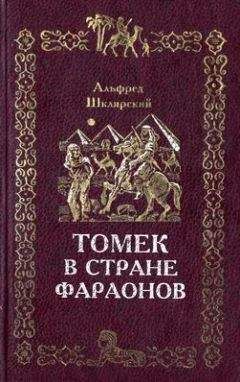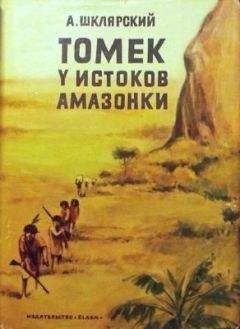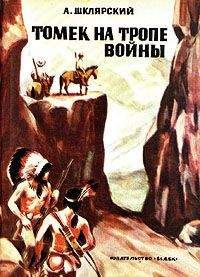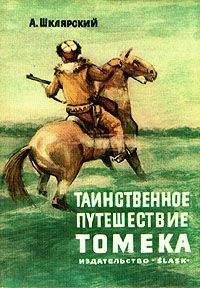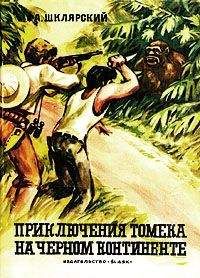Мариэтта Шагинян - Зарубежные письма
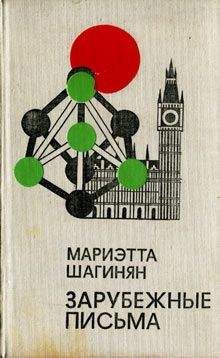
Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Зарубежные письма"
Описание и краткое содержание "Зарубежные письма" читать бесплатно онлайн.
И еще одно невольно приходит на мысль: не зря классики живописи так любили делать двойные портреты (жены и мужа, отца и сына), тройные и семейные портреты, — эмоциональная связь между ними легче приподнимала занавес над сложной тайной человеческого характера… Мы еще многому, многому не умеем учиться у наших стариков, которых считаем прочитанной и преодоленной страницей!
Очень хорошо подана в павильоне бельгийская литература. Тут, конечно, создатель гениального Уленшпигеля, Шарль де Костер, и все, что можно сказать и показать о нем. Слова Ламартина о том, что Бельгия — это самая литературная страна в Европе, иллюстрируются целым букетом бельгийцев, от Жоржа Роденбаха и Эмиля Верхарна до Сименона, ответившего Агате Кристи созданием своего Мегрэ. В «Музее слова» вы можете услышать их голоса в наушнике, отзвучавшие и еще звучащие в жизни.
Но больше, чем эти голоса, понравился мне настенный текст одного стихотворения, утверждающий, вопреки знаменитой верленовской формуле о том, что в поэзии должна быть «музыка прежде всего» (De la musique avant toute chose), поэзию и искусство слова не в «рыданьях» и вздохах, а в громком шуме, который должна производить поэзия, потому что «слова производят шум». Но — поправился именно тем, что выражена эта прозаическая мысль с чисто верленовской музыкальностью:
Encore un air de guitare,
Encore un doigt d’Armagnac,
Le ciel est plat comme lac,
Juste un souffle pour Icare.
Ces voix, ces cris, ces sanglots —
Tout ça n’est rien, mon doux frère,
C’est du bruit il faut s’y faire.
C’est le bruit que font les mots.
(Опять ария гитары, опять палец Арманьяка. Небо плоско, как пруд, — оно лишь дыханье для Икара. Все эти голоса, крики, рыданья, все это ничто, мой нежный брат. Шум — вот что надо делать, шум производят слова.)
В последних разделах образцы прикладного искусства, чудесная цветная оконная мозаика, бельгийская керамика и, наконец, музыка, поданная исторически, от трубадуров и труверов, через Гретри к Франку и Лекё…
Совсем по-другому проходишь по залам большого интернационального павильона с его внушительным названьем «50 лет современного искусства». Здесь хорошие картины (в том числе кое-что из нашего) буквально тонут в море разливанном головной абстракции. В написанном Эм. Лянги предисловии к отличному каталогу павильона дается попытка обосновать новейшие западные течения в искусстве, и особенно то, которое зовется абстракционизмом, как… «наиболее реалистические, проникающие в глубины Реального» (с большой буквы). В этом предисловии, написанном очень интересно, есть даже целая глава, носящая, к нашему приятному удивлению, названье «Социалистический Реализм» и сопровождаемая эпиграфом из Карла Маркса: «Искусство — это самая большая радость, которую человек доставляет самому себе».
Ввиду того, что тон всей статьи и особенно этой главы должен создать впечатление у читателя полной объективности суждения Лянги, поговорить о ней необходимо, тем более что о нашем советском искусстве на Западе почти не пишут в терминах благожелательности или хотя бы с желаньем действительно понять нас. Правда, «объективность» и «благожелательность» Лянги очень относительны, — он целиком оправдывает тех, кто ставит «государственный социалистический Реализм… вопреки благородству его намерений, на одну доску с самыми худшими формами академизма — ханжеского, оптимистического и сентиментального»; он допускает в статье фактические ошибки: он повторяет избитые утвержденья о том, что нельзя путать революционный сюжет с революционным духом и что «левые» художники могли бы гораздо лучше выразить нашу новую действительность, чем «правые натуралисты». Но в целом в его статье имеется, во-первых, честное, хотя и беспомощное желание понять, куда и как развивается наше искусство, и, во-вторых, статья его пробуждает в читателе желание поговорить о современном искусстве, что мы и попытаемся сейчас сделать.
«Можно рассматривать мастеров народной реальности, или Наивных, как тех, кто, будучи связанными с народом, практикуют искусство для народа согласно принятому ими решению. Это — индивидуалисты фольклора, который сам но себе является делом коллективным, — начинает свою главу Лянги. — Но существует концепция, разделяемая какой-то сотней художников в мире, по которой искусство должно служить идеологии, добивающейся, между всем прочим, и освобождения (эмансипации) масс посредством культуры». Но термин этот (культура) ни в каком случае не относится к культуре «анархической, безответственной, индивидуалистической, формалистической и декадентской заграничных цивилизаций и врагов», а только к той, которая создана была для огромного большинства и, в частности, этому большинству доступна. «Искусство, согласно этой теории, должно вести борьбу на два фронта сразу: с одной стороны — против неведения, равнодушия и отсутствия восприимчивости (к художественному), с другой стороны — против всех художественных форм, которые, сознательно или бессознательно, стремятся к непостижимому, бесполезному, иначе говоря — вредному для пролетариата. Помочь пролетариату получить сознание своей мощи, своей ценности и своего будущего и составляет — всегда в соответствии с теми же догмами — первоочередную задачу литературы и искусств, которые и находят в пей полное, чтобы не сказать — исключительное, оправдание. Вот почему живопись и скульптура социалистического Реализма, так же как роман и кинематограф, ограничивают себя прославлением народа, своей страны, своих вождей, своего революционного прошлого, своих побед, своих достижений и своей веры в будущее. Все, что не дышит непосредственно этой коллективностью, официально отбрасывается (обнаженная натура, натюрморт и всякая попытка чистой пластичности), так же как уклонение от нее беспощадно осуждается. Хотя социалистический Реализм и не претендует предписывать какой-либо стиль и хотя он так же отвергает пессимистический натурализм, как и «буржуазный» формализм, он опирается в своей эстетике на пережитки реализма до 1914 года, с некоторыми допускаемыми влияниями люминализма. Любовь к профессии идет в одной упряжке с отказом от всякого живописного эксперимента, до такой степени содержанье произведения превалирует над формой. Вначале, когда Революция еще не была так консолидирована и художники, ее соучастники, еще не падали под ножом дог-магической ортодоксии, социалистический Реализм знал великие взлеты к искусству монументальному, самодовлеющему и богатому в своих возможностях. Именно в такой форме, которую можно было назвать «добровольно-служебной», движение достигло своей высшей точки прекрасного, когда художники, часто в оппозиции к режиму своей страны, не обязаны были сгибаться перед новым вероучением (в тексте — конформизмом. — М. Ш.). Будущее покажет, не послужат ли чудесным образом цели, дорогой социалистическому Реализму, такие еретики, как Фернан Леже, Диего Ривера, Орозко, Сикейрос, Гуттузо, Бен Шан, не говоря уж о Пикассо, — гораздо больше, чем масса тех, кто перепутал революционный «сюжет» с революционным «духом». А тем временем противники государственного социалистического Реализма делают хорошее дело, ставя этот последний, вопреки благородству его намерений, на одну доску с самыми худшими формами академизма — ханжеского, оптимистического и сентиментального. Это не мешает миллионам людей в него верить, не смея в то же время ставить перед собой проблемы пластики»[20].
Я сознательно выписала эту длинную цитату из Лянги, потому что ни на одной дружеской встрече со своими западными коллегами не получим мы более откровенного изложенья того, как именно понимают проблемы и жизнь нашего искусства на Западе. И еще потому, что, получив откровенное изложение такого понимания, мы легче всего сможем и ответить так, чтоб этот ответ был дан не в пространство, а на конкретные обвиненья. Прежде всего — несколько поправок к тому, что у Лянги смехотворно неверно и напоминает старую «развесистую клюкву». Тот, кто бывал на наших выставках и знает рабочие студии наших художников, может заверить Лянги, что и обнаженная натура, и натюрморт никогда не являлись у нас чем-то «запретным».
Не знаю, почему, например, в этом павильоне нет наших многочисленных натюрмортов не только старых мастеров, таких, как Кончаловский и Сарьян, но и большинства молодежи; и нет обнаженной натуры, которую отнюдь не редкость встретить в наших салонах. Но оставим вещи, которые я считаю пустяками, и перейдем к основному. Если вчитаться в цепь рассуждений Лянги, те увидишь, как, по его мнению, западное искусство, все больше отрываясь от «сюжета» в чистую «пластику», не только не становится отвлеченным (абстракция, по мнению Лянги, это неудачно найденное слово), а, наоборот, все более конкретизируется, входит в глубины реального, в корневые особенности человеческой психологии и законов природы. Одна часть направления стремится, по его мнению, «схватить Жизнь в ее наиважнейших функциях», другая (он называет Певзнера, Габо, Хэпуорта) чисто интуитивно воспроизводит как раз те пластические формы, которые были недавно найдены учеными для выражения «алгебраических формул третьей степени», иначе сказать — идет совершенно в ногу с открытиями науки. Тут я даже могу подсказать еще пример в пользу Лянги из области музыки: абстракционисты-композиторы создают уже музыкальный язык не звуков, а пауз между звуками (чему недавно так честно удивлялся наш композитор Арам Хачатурян в № 11 журнала «Музыкальная жизнь»), — а ведь тысячи людей сидят в лабораториях и слушают музыку нашего третьего спутника, музыку не его попискиваний, а его помалкиваний — неровные пунктиры его пауз, — ибо это и есть новый язык электронных импульсов, позволяющий паузами передавать нам научные сведения из далеких небесных сфер. Так что механическое сближение новейших форм искусства с новейшими открытиями науки можно, к удовольствию Лянги, продолжить. Но дело-то ведь не в этом! Мы охотно верим Лянги, что мир линий и красок, открывающийся в самых крайних течениях западного искусства, есть глубоко реальное воспроизведение «жизни и функций жизни», какими их видит, чувствует и понимает западный человек, в данном случае — художник. Но это не та жизнь и не те ее жизненные функции, которые видим, чувствуем и понимаем мы, люди новой реальности на одной трети света, а по численности своей — представляющие не «какую-то сотню», а несколько сот миллионов. Лянги допускает у нас революцию, даже Революцию с большой буквы, и он верит, что тонкое искусство Запада может послужить ей лучше, чем наш «ханжеский академизм». Но все дело в том, что искусство чаше стремится изобразить не революцию, а те совершенно новые общественные отношения, которые революция создала; новый мир, резко расходящийся в своей реальности со старым миром. И наш художник, докапывающийся до глубины этой нашей Реальности, пытающийся докопаться до психологических глубин нашего человека, не найдет и не может найти в этих глубинах то, что находит и изображает западный художник. Представим себе блестящих птиметров эпохи Мольера, этих рафинированных эстетов, считающих себя на самом передовом фланге общества своего времени. И вот среди них, создающих поэзию тончайших ассоциаций, в которых они видят глубины особого, мистического смысла, забежавшего за пределы видимости людей ординарных, невежественных и отсталых, — представим себе, что среди этих птиметров, считающих себя передовой и ведущей частью человечества (потому что на их стороне образование, утонченность, услуги цивилизации), появился грубоватый мужлан с жаргоном улицы и выставил свою, довольно примитивную правду против их утонченной правды. Была ли такая ситуация в искусстве прошлого? Была очень часто! Это как раз начало капиталистической системы, с его простым и грубоватым искусством, направленное против конца дворянско-феодальной системы, с его утонченнейшим и тончайшим искусством. Вспомните, Эм. Лянги, первое появление пьес Мольера, художника третьего сословия, перед зрителями, воспитанными на феодальной, церковно-мистической и сексуально-символической эстетике, которая, они убеждены были, не кончает какой-то культурный цикл, а намечает его развитие в будущем. Истинное положение вещей на этой встрече мы хорошо понимаем только сейчас, а в то время общество могло думать и думало, что Мольер тянет назад, к простонародью с его «санфасоном», о птиметры ведут вперед, к углубленному искусству авангарда. И что получилось? Мольера забрасывали гнилой картошкой, но драматургия его легла в основу нового искусства, искусства людей нового общественного строя, пришедшего на смену старому, а поэзия птиметров забыта и, как отставшая от своего времени, затерялась где-то в архивном обозе истории. Такова суть вопроса. Из нее не следует, что мы создаем хорошее искусство, а Запад плохое. Но мы идем вперед, к пониманию тех форм и отношений, которым обеспечено будущее; а Запад глядит назад, в прошлое, и глубины его с точки зрения «Жизни и ее главных функций» перед лицом будущего — иллюзорны. Отсюда же и преувеличенная роль сюжета в нашем молодим социалистическом искусстве. Когда отражаешь революцию, содержание можно выразить красочной и звуковой символикой. Но отсутствие частной собственности на орудия производства; перевоспитание человека, учащегося любить и беречь общественную собственность, как свою; замена психологии состраданья и милосердия, вытекающих из чувства личной виноватости перед обездоленными, глубоким нравственным удовлетворением человека, когда рядом с собою он видит людей, одинаково с ним наделенных всем, что нужно для жизни, — такие коренные изменения всей действительности, пусть хотя бы еще только наполовину реализованные, имеющие отклонения и провалы, но в принципе уже созданные, — вот это отразить в искусстве (а ведь искусство дышит воздухом, в котором живет творец!), притом отразить на первых его порах, в самом начале новой эры, — вне сюжета и вне смыслового содержанья совершенно невозможно. Отсюда ведь даже самый острый и новый художник современности, признанный за такового и на Западе, наш композитор Шостакович, и тот прибегает к сюжету в самом отвлеченнейшем из искусств, в музыке, — примером служат его последние программные симфонии. И, завершая свой спор со статьей Эм. Лянги, я опять скажу, что начинать надо этот спор, исходя не из самого искусства, отражающего «глубины», а из глубин действительности, которые это искусство призвано отразить. Все же остальное само собой приложится со временем. И если мы еще не создали своих Мольеров, то создавать своих птиметров нам совершенно ни к чему.
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Зарубежные письма"
Книги похожие на "Зарубежные письма" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Мариэтта Шагинян - Зарубежные письма"
Отзывы читателей о книге "Зарубежные письма", комментарии и мнения людей о произведении.