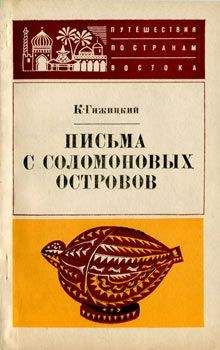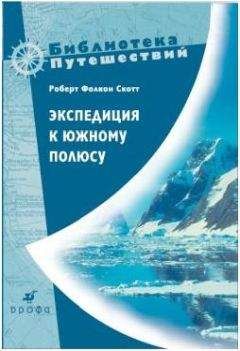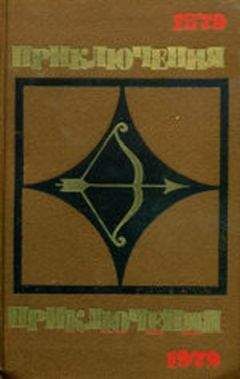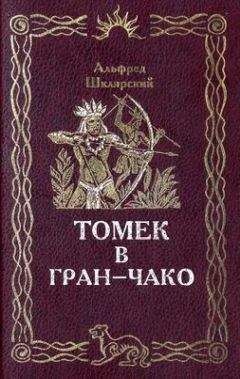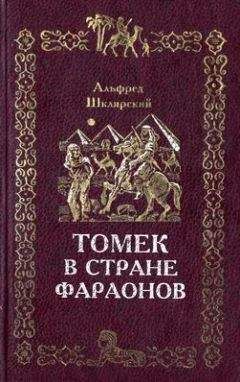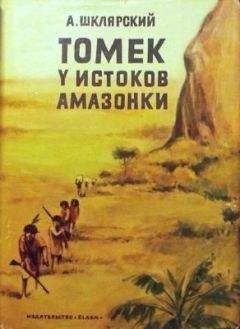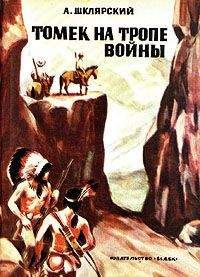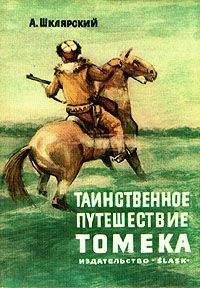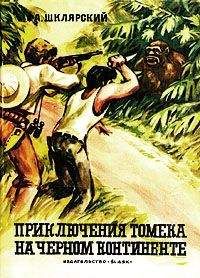Мариэтта Шагинян - Зарубежные письма
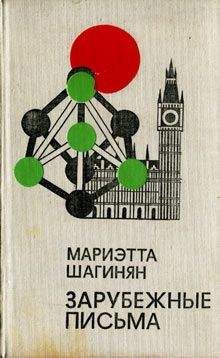
Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Зарубежные письма"
Описание и краткое содержание "Зарубежные письма" читать бесплатно онлайн.
Знаем ли мы сами дивные просторы нашей могучей Сибири, чувствуем ли ее колоссальный размер так, как пережили и запечатлели его в немецкой книге двадцать путешественников, приглашенных в январе 1967 года (в лице издательства «Голос») нашим, советским Комитетом защиты мира? Они пробыли у нас в гостях с 9 до 28 апреля, облетели Новосибирск, Иркутск, Братск, Байкал, Алма-Ату, Ташкент, Самарканд, Бухару и закончили этот богатырский облет в Москве, на совещании с советскими деятелями. Все это — особенно впечатленья от Академгородка в Новосибирске — было подробно передано авторами, с беседами, встречами, вопросами и ответами, — и при всей деловитости изложенья удивительно интересно в чтении.
Конечно, читая, не можешь не понимать разницы подхода к вещам у нас и у наших гостей. Когда пастор Мохальски в своей восторженной статье-очерке пишет о Новосибирске, что одна эта область Сибири включает в себя Англию, Голландию, Данию и Бельгию, вместе взятые, то нашему воображению это ничего не говорит: пространственные масштабы, поскольку мы меряем их всю нашу жизнь и привыкли к ним, на нас как-то не действуют. Когда он приводит цифры научных учреждений и ученых Новосибирска, это в порядке вещей, мы знаем их. Привычное не воспринимается дифференцированно, не дает ощущения качественной разницы между их восприятием и нашим. Но вот в выводе, в направлении внимания есть для нас эта разница. Маленький пример: в первый год Отечественной войны я остро почувствовала на Урале разницу поколений или, чтоб быть точной, не только ее, а новый тип молодого советского рабочего нового, подросшего поколения, когда один из передовых наших ударников, рабочий Дмитрий Босый, прервав разговор и взглянув на часы, сказал мне: «Пора лететь, поспеть на аэродром» — с простотой, как прежде сказал бы: «Пора домой». Меня тогда поразила простота и быстрота освоения нового вида транспорта, самолетного, у нашего рабочего класса, у молодежи, отцы которой где-нибудь в глухой деревне с благоговейным чувством взирали на «чугунку» с дымящим паровозом, увиденную ими впервые. Мне бросился в глаза маршрут, проделанный ростом сознания и привычек у рабочего в новых социальных условиях. Но для наших западных гостей то же самое явление измерилось не на масштаб человеческого роста, а на масштаб расстояний, воспринимаемый нашими людьми. Самолет из Иркутска в Братск [(«рукой подать — всего шестьсот километров, — а что такое шестьсот километров для Сибири!») из мерила роста сознания становится мерилом чувства расстояния. «Кажется, будто каждый здесь у себя дома: портфель в сетку — сел — вынул газету. Так оно в Сибири: расстояния не играют никакой роли, самолеты здесь — автобусы»[167].
Интересно и по-разному, в открытую, делятся двадцать западных путешественников своими мыслями о Сибири и о нас. Среди ученых и журналистов едет крупный промышленник, господин Курт Кёрбер, собственник так называемого Хауни-производства в Гамбурге, продукция которого была представлена в Москве на выставке. Для пего мы — рынок, и острыми глазами практика он подмечает все наши недостатки, с которыми борются и наши газеты, — и когда он их подмечает и описывает, ставя их рядом с явлениями огромного скачка Советской страны в области науки и техники, — становится стыдновато за себя. Богословы, тоже бывшие в группе путешественников и всюду главным образом искавшие встреч и бесед с представителями разных церквей, удивительным образом обпаруяшли пехватку того самого «отделения церкви от государства», какое отлично усвоили руководители церквей у нас, — по принципу «кесарево — кесарю, божие — богу». Им как будто все время хотелось встретить в ответах наших церковных пастырей залезаиие «божьей» оценкой в «кесареву» область, а когда этого не случалось, ответы казались им уклончивыми. Впрочем, ответы казались уклончивыми не только одним богословам, но и журналистке, Марион Дёнхофф.
Уклончивость воспринимается западными людьми, ждущими у нас ответов на вопросы, так же неверно, как неверно воспринимаем мы иногда эти западные вопросы. Они, их вопросы, кажутся нам каверзными, а им наши ответы — уклончивыми. Но, по-моему, в большинстве случаев ни там, ни тут нет ни каверзы, ни уклона. Когда вопросы касаются явлений, связанных с корневым существом нового строя, поворотом в области истории, или каких-либо искривлений, проистекших от нарушений главных, корневых принципов нашего общества, — ответ очень затруднен обилием объяснений, которые нужно начинать с Адама. Если ответишь близлежащим звеном явленья, последует новый вопрос о предыдущем звене, — и придется шаг за шагом поднимать целую сеть того сложного целого, которое можно назвать «социальной историей Октябрьского переворота на Руси и строительства в ней социализма». Уж не говоря о немыслимой протяженности такого ответа, под стать нашим сибирским расстояньям, — можно держать пари, что он или не будет понят, или опять-таки покажется уклончивым…
Вот почему надо держаться конкретно и быть всегда искренним и в вопросах и в ответах. Удивительно хорошо отвечал товарищ Палецкис в конце книги, когда западные гости собрались в Москве на заключительное совещание. И хорошо делает издательство «Голос» — нужную, умную работу, — издавая целую серию небольших брошюрок под названием «Ответы». Судя по проспекту, они касаются многого, что интересно для обеих знакомящихся друг с другом стран, Западной Германии и Советского Союза. Например: диалог между марксистом и христианином (он назван несколько иначе: «На пороге диалога между христианином и марксистом»). «Хозяйство, общество и демократия в Федеративной Республике», «Подъем и кризис немецкой социал-демократии», «Реформация за 100 лет до Лютера, — три речи, которые Ян Гус не смог произнести в Констанце» и т. д. — конечно, это не марксистские работы в нашем смысле слова, но они прогрессивны, критичны, информационны в объективном духе, проникнуты желанием обоюдного ознакомления.
Издательство «Голос» выпустило и превосходную книгу с четырьмястами пятьюдесятью документами из наших архивов об истории Ленинграда, с Октябрьского переворота, и до гражданского подвига ленинградцев во дни блокады… «Против своей воли даже враги оставили этому городу свидетельства его величия», — говорится об этой книге. Издательство собрало и напечатало очерки советских людей о ФРГ, книгу Валентина Бережкова (редактор «Нового времени») о дипломатической миссии к Гитлеру в Берлине 1940/41 года. Если помнить, какими острыми были взаимоотношения между ФРГ и нами все эти годы, то скромная работа пастора Мохальски, собирающего людей, настроенных просоветски, ведущего в этом духе издательскую работу, организующего поездки наших людей в ФРГ (герром Кёрбером предложена была даже стипендия для трех советских студентов в немецком университете и западных немцев в Советском Союзе), — эта скромная работа делает свой серьезный вклад в пользу мирного сосуществования.
Франкфурт-на-Майне
VII. «Старая Хейдельберг»
На немецком языке это она, женского рода. Гора Хейдель. И в старинной песенке о пей поется:
Alt Heidelberg, du feine.
Du Sladt an Ehren reich, —
что в переводе звучит почти нежно: «Старая Хейдельберг, ты тонкая, ты город, богатый почестями…» Утром, раздвинув шторы, я впустила в мой франкфуртский помер яркий солнечный свет. Как и в Мюнхене перед прогулкой, нас с Александрой ожидал сегодня необыкновенный день, на этот раз без снега, нагретый солнцем, без единого облачка, — для поездки, которой я ждала с очень большим волненьем, почти со страхом. Если существуют романтические «города моей молодости», то Гейдельберг был именно таким «городом моей молодости», поворотным пунктом почти в середине всей прожигой жизни, после которого эта жизнь, преломившись, пошла в другую — новую сторону. Пятьдесят шесть лет назад, закончив в Москве Высшие женские курсы, заменявшие женщинам университет, куда еще доступа нам не было, — я была направлена, по совету моего профессора Николая Дмитриевича Виноградова, в достославный город Гейдельберг, писать магистерскую диссертацию. Кончила я историко-философский факультет, и тема моей диссертации была историко-философская. А ее консультантом и руководителем в Гейдельберге должен был стать католический профессор Трёльч, один из известнейших тогда в Европе богословов.
Я приехала задолго до начала занятий, в летние каникулы. Помню мрачноватый холл и канцелярию старого университетского здания; и первую беседу с Трёльчем перед его летним отпуском. Он признался, что знает о теме моей диссертации ровным счетом не больше, чем знаю я сама. Но он заинтересовался ею, посмеялся, а потом, став серьезным, сказал, что, конечно, сделает все возможное, и огромная библиотека в моем распоряжении, и поможет покопаться в архивах… Тема действительно оказалась уникальной, и бедный Николай Дмитриевич, выудив ее из старого немецко-философского словаря, не подозревал, какую дьявольскую услугу мне оказал. Называлась она по-русски «Якоб Фрошаммер, философ мировой фантазии». А фундаментальный труд этого философа, который надлежало изучить и подвергнуть критике, — «Фантазия как принцип, лежащий в основе мира» — «Die Phantasie als Weltprinzip».
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Зарубежные письма"
Книги похожие на "Зарубежные письма" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Мариэтта Шагинян - Зарубежные письма"
Отзывы читателей о книге "Зарубежные письма", комментарии и мнения людей о произведении.