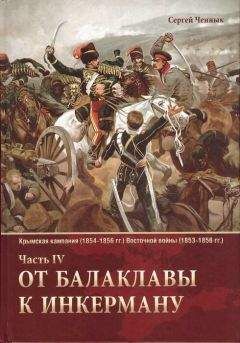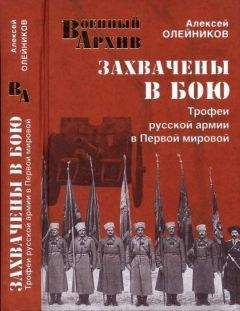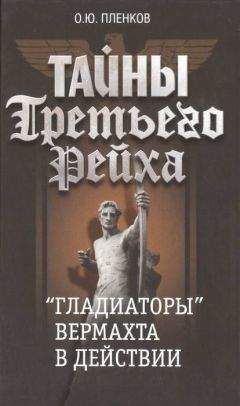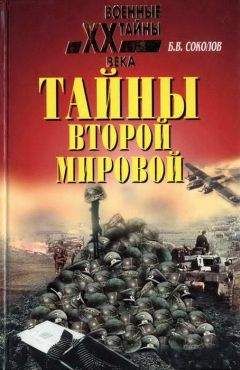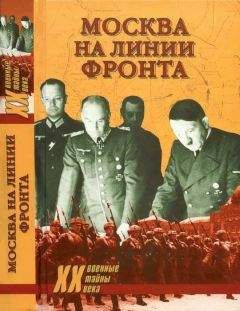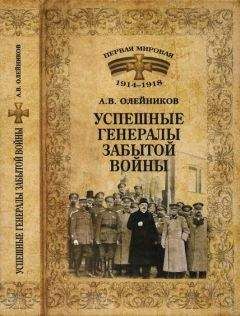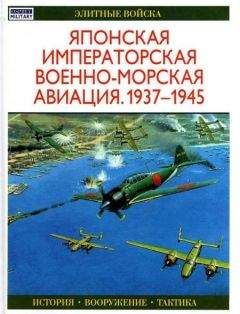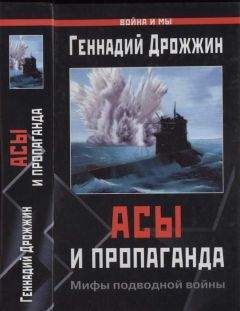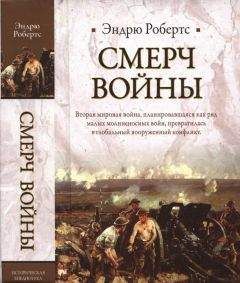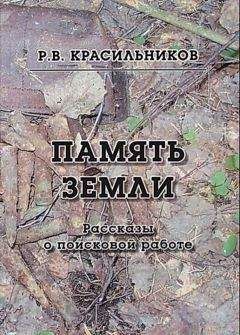Марк Ферро - Семь главных лиц войны, 1918-1945: Параллельная история
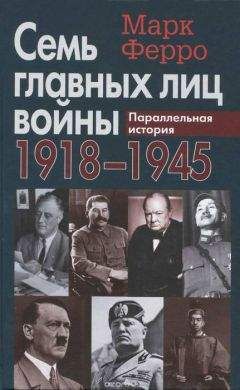
Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Семь главных лиц войны, 1918-1945: Параллельная история"
Описание и краткое содержание "Семь главных лиц войны, 1918-1945: Параллельная история" читать бесплатно онлайн.
Французский историк М. Ферро рассматривает события Второй мировой войны, анализируя параллельно действия и соображения ее главных действующих лиц — лидеров семи основных государств-участников (Германии, Италии, Японии, СССР, США, Великобритании, Франции).
Книга предназначена для широкого круга читателей, интересующихся историей Второй мировой войны.
Его выступление по радио полностью провалилось.
«Чем больше вы говорите, тем больше голосов теряете», — сказал ему лечащий врач. Черчилль поносил лейбористов, «установивших своего рода гестапо», тогда как он четыре года правил вместе с ними. «Неужто я был так плох?» — вопрошал премьер-министр. А в Англии уже шептались, что этот старый вояка, этот бульдог просто не сможет быть мирным человеком. Говорили, что он, безусловно, не в состоянии провести реформы, если только не реализует план Бевериджа по учреждению социального государства{411}. «Мне нечего больше сказать, нечего передать в качестве послания», — заметил еще раз премьер-министр. В Андае, куда он отправился отдохнуть на недельку, ему аплодировали прохожие. «В любом уголке мира, в любом его конце меня будут бурно приветствовать», — сказал он тогда с грустью. Мысль о предстоящих перевыборах отравляла ему жизнь.
25 июля Уинстон Черчилль сказал своему доктору: «У меня был кошмар… Я видел во сне, что жизнь для меня кончилась. Я видел, очень четко, мой собственный труп, лежащий на столе в пустой комнате, прикрытый белым саваном. Я узнал свои торчащие голые ноги… Наверное, это конец».
26 числа Черчилль узнал о поражении его партии, получившей всего 213 мест против 393, доставшихся лейбористам. А сам он был унижен даже в своем избирательном округе, где из щепетильности лейбористы и либералы не выставили против него ни одного кандидата. Черчилль завоевал 28 тысяч голосов, тогда как никому неизвестный независимый кандидат собрал целых 10 тысяч…
«Но почему тогда меня приветствуют? С какой стати?» — спрашивал Черчилль у тех, кто его поздравлял… со слезами на глазах. Говорил ли он о неблагодарности? Нет, он заключил только, что «народ слишком много страдал».
ДЕ ГОЛЛЬ: СТРАННАЯ ПОБЕДА
Во Франции события после 8 мая приняли характер «странной победы». Там, конечно, праздновали, но не было ничего общего с опьянением периода Освобождения. Открытие лагерей смерти летом 1944 г. — весной 1945 г. обнаружило неописуемое. Отныне стало известно, что большая часть тех, кого ждали назад, не вернется никогда. А уцелевшие выглядели живыми трупами на фоне бодрых и здоровых военнопленных, с которыми враг обращался совсем неплохо. «Не противопоставляйте их», — говорит надпись к карикатуре в журнале «Борьба» (Combat), которым руководил тогда Альбер Камю. Контраст, тем не менее, мрачно напоминал о недавней трагической эпохе.
Еще одна несправедливость: война, продолжившаяся после Освобождения, стала делом рук одних военных. Только и говорили, что о де Латре, Леклерке, Кёниге. Еще в 1944 г. штатские из внутреннего Сопротивления были сильно раздосадованы тем, что во время торжественных церемоний их ставят в самый хвост кортежа. Внутреннее Сопротивление оказалось пасынком победы. В 1945 г. в тени празднеств и возвращения пленных из Германии в обществе сохранялось нечто от французской гражданской войны.
Разумеется, в этот час отождествление внутреннего Сопротивления с коммунистической угрозой могло показаться законной мерой предосторожности со стороны де Голля и его людей. Хотя Сталин считал, что французские коммунисты должны участвовать в правительстве, де Голль относился к этому прохладно. Главным для него было погасить слабые «революционные» попытки и побудить народ к восстановлению страны. Разве на Корсике после освобождения острова не захватило власть ультрарадикальное меньшинство?
«Вы же не думаете в самом деле, что меня признают эти комитеты по беспорядку!» — доверительно сказал он год спустя своему адъютанту, лейтенанту Ги. Дело выглядело так, словно «Сражающаяся Франция» противостояла Сопротивлению… Де Голль углубил диагноз: «В 1944 г. Франция, эта старая буржуазная дама, приветствовала Сопротивление, несмотря на свой ужас перед переворотами, лишь потому, что спутала его с концом войны. Она до сих пор, через год после Освобождения, не заметила, что война закончилась только что».
Кроме того, внутренняя чистка, происходившая, пока пленные возвращались из Германии и шли празднества, организованные во Франции после Освобождения, в чем-то продолжала времена оккупации. «Эпоха палачей, — писал Альбер Камю в «Борьбе», — пробудила гнев жертв. Когда палачи исчезли, французы остались со своей ненавистью, не растраченной до конца. Они смотрят друг на друга с остатками ярости».
Эти обстоятельства способствовали перемене в отношении к де Голлю в стране. Героя, которого при Освобождении приветствовали абсолютно все, менее чем через год стали подозревать в том, что он не воздает должное несчастьям своей страны: каждый отмечал Освобождение так, словно поучал другого. На горе Валериан и в Шатобриане коммунисты, называвшие себя «партией 80 тысяч расстрелянных», чествовали своих погибших, как если бы те были единственными. На Валериане все фракции Сопротивления смешались в кучу, но 1 и 11 ноября именно правительство де Голля записало в свой актив павших в «тридцатилетней войне». У каждого — свои церемонии, и так вплоть до 8 мая, когда победу отпраздновали одновременно с днем памяти Жанны д'Арк… А о чьей, собственно, победе шла речь? Французской армии в Германии? Де Голля? Советского Союза и его сторонников-коммунистов? Или союзных держав?
Странная победа, которую отметили кое-как и о которой у современников не осталось практически никаких воспоминаний…
Что касается самого де Голля, то он сохранил горькое воспоминание о своей поездке в Москву (см. выше раздел «Унижения генерала де Голля»); объективный союзник, на которого он опирался во время войны в противовес Рузвельту, — СССР — оказался крайне неприятным, даже угрожающим…
С тех пор де Голль наблюдал, как огромная махина компартий потихоньку прибирает к рукам страны Восточной Европы. Даже во Франции партия Мориса Тореза нажила политические дивиденды на недовольстве общества всяческими лишениями. Общества, которое хоть и не принимало, конечно, охотного участия в действиях внутреннего Сопротивления, но чаще всего его защищало и всегда оставалось глубоко враждебным к оккупантам.
Вновь оживляя подозрение, под которое де Голль попал в самом начале своей политической карьеры в 1940–1941 гг., коммунисты, поддерживаемые частью левого крыла, обвиняли его в диктаторских амбициях. Он отверг обвинение «с железным презрением». А политический мир упивался чеканной формулировкой Пьера Эрве, ответившего де Голлю в «Юманите»: «Железное презрение, кожаные штаны, деревянная сабля».
Вскоре де Голль уйдет от власти (в январе 1946 г.). Его прогноз о советско-коммунистической угрозе совпадал с прогнозом окружения нового американского президента Гарри Трумэна, более осмотрительного, чем Рузвельт, в отношении будущих рисков{412}.
«ХОЛОДНАЯ ВОЙНА» ИЛИ…
Через шестьдесят лет после войны, когда Владимир Путин отмечал победу над нацизмом, руководители прибалтийских государств, аннексированных СССР во время советско-германского пакта, отказались рассматривать 8 мая как дату освобождения. Для них этот день означал аннексию.
Прибалты продолжили то, что в 1945 г. называлось «духом Риги», т. е. последовательное сопротивление сначала царизму, а затем советской власти. Этот дух олицетворяли прибалтийские иммигранты в США, потом работавшие в этих странах дипломаты, которые в 1941 г. протестовали против заключения «Большого альянса» между Вашингтоном и Москвой, а в 1945 г. критиковали примиренческий дух, царивший в Ялте. Вслед за Джорджем Кеннаном, Лоем Хендерсоном и Чарльзом Боленом они сформулировали аргументацию, которая впоследствии легла в основу «холодной войны», — ответ на нарушение Сталиным в Восточной Европе ялтинских договоренностей. Позднее они же провозгласили доктрину сдерживания (containment) — блокирования Советов на их позициях.
После смерти Рузвельта, когда Гарри Хопкинс был болен, они осаждали президента Трумэна, убеждая его проявить твердость, в частности, по всем аспектам польской проблемы: в вопросах о роли эмигрантского правительства в Лондоне, восточных границах и т. д. и т. п. В конце апреля 1945 г., впервые встретившись с Молотовым накануне основавшей ООН конференции в Сан-Франциско, Трумэн сухо потребовал от своего собеседника соблюдать условия ялтинских договоренностей. «Со мной никогда в жизни еще так не разговаривали», — отреагировал Молотов. «Польская проблема для нас дело не только чести, но и безопасности», — сказал Трумэн{413}.
Потихоньку благодаря неопытности нового президента происходило ужесточение американской политики. Однако влиятельный государственный секретарь Джеймс Бирнс в конце концов убедил Трумэна, что первоочередной задачей является не создание ООН и не антагонизм с СССР, а участие США в войне с Японией. И во время встречи со Сталиным в Потсдаме об этом ни в коем случае не следовало забывать, поскольку, хотя американцы уже более года одерживали в Тихом океане одну победу за другой, решающая атака на собственно японский архипелаг потребовала бы невероятных человеческих жертв.
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Семь главных лиц войны, 1918-1945: Параллельная история"
Книги похожие на "Семь главных лиц войны, 1918-1945: Параллельная история" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Марк Ферро - Семь главных лиц войны, 1918-1945: Параллельная история"
Отзывы читателей о книге "Семь главных лиц войны, 1918-1945: Параллельная история", комментарии и мнения людей о произведении.