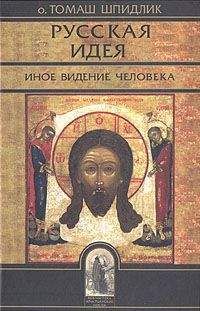Антон Нестеров - Колесо Фортуны. Репрезентация человека и мира в английской культуре начала Нового века

Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.
Описание книги "Колесо Фортуны. Репрезентация человека и мира в английской культуре начала Нового века"
Описание и краткое содержание "Колесо Фортуны. Репрезентация человека и мира в английской культуре начала Нового века" читать бесплатно онлайн.
Книга посвящена исследованию отношений английской живописи второй половины XVI – начала XVII в. и английской культуры как сложного целого. Восприятие культуры времен королевы Елизаветы I и короля Иакова IV требует внимания к самому духу времени, к идеям, что в ту пору «носились в воздухе» и составляли фон драм Шекспира и стихов Джона Донна, полотен Николаса Хилльярда и Джона Гувера. Чтобы понять искусство той эпохи, необходимо погрузиться в ее теологические искания, политические диспуты, придворные интриги, литературные предпочтения, алхимические эксперименты и астрологические практики.
Автор использует большой массив теологической, социальной информации, создающий контекст, в котором только и можно «увидеть эпоху», обнаружить глубинные смыслы в портретах, мозаиках, гравюрах и эмблемах.
Вернемся, однако, к Елизавете и используемой ею символике. Феникс как один из символов политической репрезентации королевы соотносился с тем Фениксом, о котором говорили юристы, давая определения «политического тела» монарха. Заметим, что проблема «двух тел» властителя приобретала особую остроту в Англии, отошедшей в ходе Реформации от Папского престола. У уже упоминавшегося выше светила английского правоведения, Плоудена, образ Феникса присутствует опосредованно – через ссылки на труды своих итальянских коллег, отцов церкви и специалистов по каноническому праву. Но у таких образов обычно всегда есть подчиняющее себе реальность силовое поле: символическая система, будучи лишь затронутой, начинает активно воспроизводить сама себя.
На гравюрном портрете Елизаветы, выполненном, вероятно, Криспином де Пассе вскоре после разгрома в 1580 г. испанской Непобедимой Армады,[252] мы видим королеву со скипетром и державой, стоящую между двух колонн. На одной из колонн помещен герб Тюдоров, а вверху сидит Пеликан, кормящий детей кровью, на другой – Феникс.
Криспин де Пассе (?). Гравюрный портрет Елизаветы I. 1580 (?)
В церковной иконографии Пеликан и Феникс очень часто выступали как соотнесенная пара, которую порой сопровождали изображения Льва с тремя львятами и Единорога. Так, А. А. Морозов дает описание подобного комплекса, датированного второй половиной XV в. в церкви Св. Лоренца в Нюрнберге: «В центре – сцена Рождества с Марией, Иосифом и лежащим прямо на земле младенцем Иисусом. Прямоугольник с этим изображением заключен в ромбовидную рамку, в которой строго геометрически расположены эмблематические фигуры: в верхней части Пеликан с тремя птенцами, справа Феникс на костре, слева Единорог с Девой, внизу Лев с тремя львятами… В этой композиции интересно перенесение эмблематики, связанной с темой крестной смерти и воскресения Христа (Пеликан, Феникс), в богородичную иконографию».[253]
Пеликан был символом чистоты и самопожертвования: согласно легенде, Пеликан, если ему нечем накормить птенцов, расцарапывает себе клювом грудь и поит их кровью. Эта легенда, известная еще Плинию, была переосмыслена христианскими авторами, и образ Пеликана получил устойчивое метафорическое значение, став знаком Христа, искупившего Своею кровью первородный грех. Три птенца Пеликана символически соотносились с тремя днями, прошедшими после положения во гроб Христа перед Его воскресением.[254] Однако ко второй половине XVI в. это религиозно-символическое значение образа Пеликана постепенно стало расщепляться и соседствовать с дидактико-политическим.[255] Так, в сборнике эмблем Адриана Юния (1565) изображение Пеликана снабжено девизом: «Quodinteestprome» («Что заключено в тебе, развивай»), но рядом помещен и иной девиз: «Prolegeetgrege» («За своих <свой народ> и право»).[256]
О готовности пожертвовать собой ради нации Елизавета объявила еще при восшествии на престол. Так, во время движения коронационной процессии через Лондон, принимая праздничные подношения мэра, Елизавета объявила: «Я благодарю Вас, милорд мэр, Ваших собратьев, и всех вас. И поскольку вы просите, чтобы я оставалась вашей доброй госпожой и королевой, я останусь к вам так же добра, как всегда была к моему народу. Для этого у меня не будет недостатка желания, и я верю, не будет недостатка власти. И не сомневайтесь, что ради вашей безопасности и покоя я не замедлю, если потребуется, пролить свою кровь» (Курсив наш. – А. Н.).[257] А в своей первой речи, лично произнесенной перед парламентом 10 февраля 1559 г., королева, мотивируя свое нежелание вступать в брак, искусно сыграла на своей роли «матери нации»: «Я уже связана брачными узами с мужем – им является королевство Англия; возможно, это удовлетворит вас. И меня удивляет, что вы запамятовали об этом брачном союзе, который я заключила со своим королевством, – при этих словах она простерла руку, показывая кольцо, которая получила при заключении брака – инаугурации на престол. – И не предъявляйте мне упреки в том, что у меня нет детей: ибо каждый из вас, все англичане до единого, – мои дети…» (Курсив наш. – А. Н.).[258]
Сравнение роли монарха с ролью родителя – общий топос королевской власти, но Елизавета вносит в него особый акцент,[259] явственнее выступающий на фоне рассуждений на ту же тему Иакова I, который писал:
«В согласии с законом естественным, при коронации король становится естественным отцом для всех подданных; и как отец по долгу отцовства принимает на себя узы, обязывающие его заботиться о пропитании и образовании своих чад, равно и добродетельном ими управлении, так и король обязан заботиться о своих подданных. Труды и горести, которые отец взваливает на себя во имя своих чад, в глазах его необременительны и исполнены блага, ибо тем обретается богатство и благосостояние детей, – точно так же должен относиться к своим деяниям во имя подданных и владетельный князь. Добрый отец должен предвидеть все затруднения и опасности, которые могут возникнуть перед его отпрысками, и предотвращать их, пусть даже с опасностью для себя – так же должен поступать и король во имя своего народа. Отцовский гнев на детей, совершивших проступок, и наказание неразумных чад должны смягчаться жалостью, покуда есть хоть малейшая надежда исправить оступившихся, – так же надлежит действовать и королю в отношении своих подданных, повинных в том или ином прегрешении. Вкратце: как величайшее удовлетворение отца состоит в том, чтобы обеспечить процветание детей, возвеселиться от того, что они живут в достатке и благе, скорбеть и сокрушаться, коли их постигнет зло или несчастье, и рисковать во имя их безопасности, принимать на себя тяготы пути, дабы пребывали они в покое, бодрствовать во имя их сна. Словом – полагать, что его земное счастье и жизнь его более заключены в детях, нежели в нем самом. И так же надлежит думать владетельному князю о своих подданных».[260]
Мы видим, что Иаков подчеркивает дистанцию между владыкой и его вассалами, тогда как Елизавета с первых шагов своего царствования стремится внести в отношения с подданными определенную теплоту. Причем это – теплота, которая сродни теплоте, связывающей верующего и объект его мольбы: молящийся взывает к тому, что выше него, в надежде на снисхождение. Королева как бы фокусирует на себе чаяния своих подданных – неудивительно, что позднейшие исследователи говорили о том, что культ королевы заместил собой культ Богоматери.
Характерно, что в своем выступлении перед Парламентом 30 ноября 1601 г., ставшим своего рода политическим завещанием Елизаветы I, королева вновь возвращается к мотивам этой особой связи со своим народом:
«Есть ли владыка, любящий своих подданных больше, чем я, или владыка, чья любовь сравнилась бы с моей? Нет драгоценности, которая была бы мне столь дорога, чтобы я поставила ее превыше этого сокровища: вашей любви. Ибо ее я ценю более, чем любые сокровища и богатства, так как им цена известна, ваши же любовь и благодарность в моих глазах – бесценны. И хотя Бог вознес меня высоко, я все же считаю славой моей Короны то, что я удостоилась вашей любви. И радуюсь я не столько тому, что Богу было угодно сделать меня королевой, но тому, что Он поставил меня королевой над народом столь благодарным… И хотя у вас были и, возможно, еще будут на этом троне многие владыки, которые могущественней и мудрее меня, у вас не было и не будет властителя, который бы больше заботился бы о вас и любил бы вас более, чем я».[261]
Эта риторика Елизаветы была подхвачена современниками и неоднократно потом воспроизводилась в трудах многих авторов. Так, поэт и памфлетист Энтони Мандей (1553–1633) писал, что Елизавета «относилась к своим подданным как любящая мать и нянька».[262] В 1586 г., на волне увлечения эмблематикой, в Англии выходит книга Джеффри Уитни «Избранные эмблемы и прочие девизы…», искушенный читатель которой мог соотнести предлагаемые автором девизы с тем или иным из первых лиц государства.
Среди прочих в сборнике была и эмблема, изображающая Пеликана, и ее пояснительный текст гласил:
The Pelican, for to revive her younge
Doeth pierce her brest, and geve them of her blood.
Then search your breste, and as your have with tonge
With penne procede to do your countrie good:
Your zeale is great, your learning is profound
Then help our wantes, with what you doe abounde.[263]
(<Птица> Пеликан, чтобы оживить своих чад / Расцарапывает грудь и дает им испить своей крови. / Потому найди свою грудь и чем можешь – речами ли, / пером ли продолжай творить благо стране: / Рвение твое велико, ученость – глубока, / Помоги же исполнению наших желаний, что ты и делаешь премного.)
Этот текст явственно соотносился с Елизаветой, причем не только в ее ипостаси Королевы, но и в ипостаси главы англиканской церкви, поскольку Пеликан – символ Христа.
Позже, в сборнике Джорджа Визера «Собрание эмблем, древних и новых», вышедшем в Лондоне в 1635 г., мы видим, что изображение Пеликана, кормящего грудью птенцов на переднем плане, соотнесено с Распятием, помещенным в глубине рисунка, а девизу «Prolegeetgrege» («За своих <свой народ> и право») предпослано двустишие «Our Pelican, bybleeding, thus/ Fulfill'd the Law, and cured Us» – «Наш Пеликан, отворяя кровь, тем / Исполнил Закон и нас исцелил»;[264] тут графический образ и стихотворный текст свидетельствуют о двойной, светской и религиозной, соотнесенности эмблемы.
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Колесо Фортуны. Репрезентация человека и мира в английской культуре начала Нового века"
Книги похожие на "Колесо Фортуны. Репрезентация человека и мира в английской культуре начала Нового века" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Антон Нестеров - Колесо Фортуны. Репрезентация человека и мира в английской культуре начала Нового века"
Отзывы читателей о книге "Колесо Фортуны. Репрезентация человека и мира в английской культуре начала Нового века", комментарии и мнения людей о произведении.