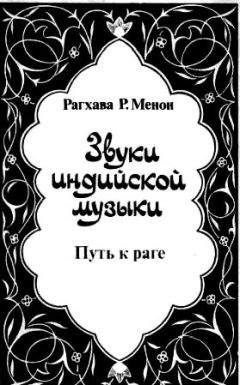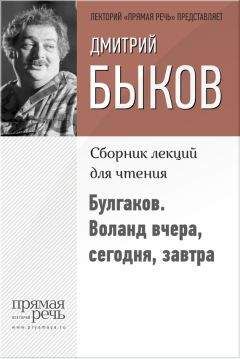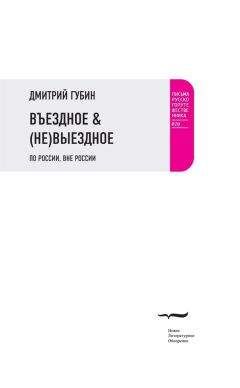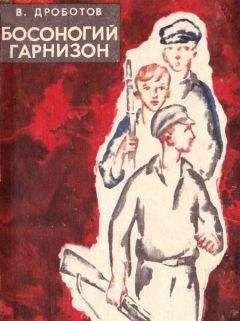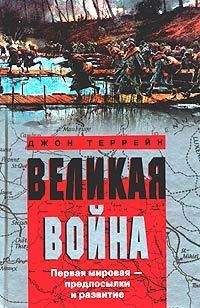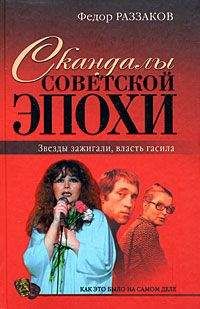Марина Раку - Музыкальная классика в мифотворчестве советской эпохи

Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.
Описание книги "Музыкальная классика в мифотворчестве советской эпохи"
Описание и краткое содержание "Музыкальная классика в мифотворчестве советской эпохи" читать бесплатно онлайн.
В книге впервые делается попытка восстановить историю рецепции классического музыкального наследия в советскую эпоху. Ее материал составляют как музыкально-критические и музыковедческие работы, так и политические документы, музыкальные, литературные и кинематографические произведения, источники по истории советского театра, различными средствами интерпретирующие смыслы классической музыки. Рассматриваются принципы и механизмы осуществленной в советскую эпоху «редукции» классического наследия, ее влияние на восприятие музыки массовым слушателем и на само советское искусство, роль в обретении идентичности «советская культура». Анализируется исторический контекст, в котором происходило омассовление «музыкальной классики» в советской культуре и формирование того ее образа, который в массовом сознании во многом остается действенным и сегодня.
Между тем пролетарская печать, пытаясь смоделировать некий обобщенный образ рабочей аудитории и суммировать ее возможные предпочтения (порой под именами вымышленных рабкоров526), навязчиво пыталась выступать регулятором художественного процесса:
Похвалы вызывает также «Кармен» Бизе.
Рабкор Никитин видел эту оперу в Замоскворецком театре в исполнении артистов Большого театра. Он называет ее «очень хорошей» и отмечает:
«Она очень часто прерывалась аплодисментами рабочей аудитории»
([«Рабочий зритель»]. № 21).
Итак, мы видим, что у рабкора вызывают одобрение лишь те оперы, которые так или иначе освещают взаимоотношения классов и социальную жизнь, хотя бы и не всегда четко527.
Отмеченная «нечеткость» означенной интерпретации известного сюжета может быть объяснима в первую очередь тем, что подобная смысловая нагрузка возлагалась в данном случае на тот самый спектакль Санина, который ни в замысле своем, ни в ощущениях премьерной критики не содержал подобного потенциала. Но «социальный вектор» восприятия стал активно навязываться этому и другим классическим шедеврам.
Однако одной «социальностью» дело не ограничивалось. Зачастую различимая в составе экспрессионистского мироощущения, она в условиях создания соцреалистической эстетики, заявленной в качестве первоочередной задачи советского искусства в начале 1930-х годов, должна была дополняться и другими значимыми свойствами. Важнейший идеологический тезис этого времени определили поиски «оптимистичного» искусства. Требования душевного «здоровья» настоятельно звучали уже в год постановки «Карменситы и солдата». Аналогичные по смыслу требования начали предъявляться и к сфере эроса, который должен быть «здоровым» и «общественно полезным»528. Немирович-Данченко, создавший на этом фоне бескомпромиссно трагическое зрелище, обрек свой спектакль на негативную реакцию большей части музыкально-критической прессы.
Оптимизм, сопрягаясь с бытовой достоверностью, понимаемой как «народность», и должен был породить феномен социалистического реализма в оперной режиссуре. Подходы к этой стилистике в оперном жанре были опробованы в 1935 году признанным создателем советского «реалистического» театра Станиславским именно на «Кармен»529. Как было давно заведено в отношениях двух основоположников Художественного театра, между ними и здесь продолжалось негласное соревнование. «Неизвестно, как отнесся Станиславский к “Карменсите и солдату”, но его высказывания об опере Бизе, характер осуществленной им постановки “Кармен” убеждают в том, что позиция Станиславского была противоположна подходу Немировича-Данченко»530. Рецензенты же постановки, осуществленной под руководством создателя театральной системы, распространенную в эти годы на всю советскую театральную империю, не сговариваясь, варьировали одни и те же определения: «народность», «демократичность», «оптимистичность», «реалистичность»531.
Эти постулаты параллельно отрабатывались в музыковедческой литературе, закрепляясь за классическими шедеврами разных авторов, школ и эпох. Особую значимость приобретали словесные интерпретации классики, которой таким образом навязывалось необходимое, идеологически «верное» и «современное» содержание. Они выполняли роль своего рода «вектора» сценической эволюции сочинения.
I.11. «Кармен» как образец «советской классической оперы»
«Средним арифметическим» суждений советских музыковедов 1920 – 1930-х годов об опере Бизе, безусловно, можно назвать причисление этой оперы к неоспоримым художественным шедеврам, что в их глазах являлось недостижимым для других французских композиторов. На этом тезисе настаивал, например, Е. Браудо:
В области оперного творчества Франция, игравшая в конце 30-х годов руководящую роль в Европе, не смогла удержаться на этой высоте. <…> Французские музыканты предпочитали идти по традиционным путям, воспринимая те или иные технические приемы других национальных школ. <…> Если Гуно и Тома объединяли в своем творчестве различные влияния и принадлежали, в сущности говоря, к эпигонам, то гениальному Жоржу Бизе удалось найти самостоятельный подход к бытовой опере, чуждой показной эффектности532.
Кремлев заканчивает свой монографический очерк о Бизе утверждением:
<…> из всех французских музыкантов XIX века никто, кроме него, не изображал жизнь с такой потрясающей правдивостью, никто не проникал так глубоко в толщу бытовой, массовой, повседневной психики, никто так горячо не верил в неистощимые силы и мощные жизненные импульсы человека533.
Близкую мысль проводит Соллертинский:
Именно этот углубленный музыкальный реализм бесконечно возвышает Бизе над всеми его оперными современниками – Тома, Гуно, Масснэ, Сен-Сансом и прочими…534
Определение «реалистическая», опиравшееся, по-видимому, на характеристику этой оперы как «бытовой», прочно закрепляется за сочинением Бизе на протяжении 1930-х годов, хотя само по себе понятие «музыкальный реализм», как в исторически-конкретном, так и в стилистическом плане, с годами так и не прояснится в советской литературе о музыке. Так, в 1927 году Браудо еще называет «Кармен» «крестьянской трагедией»535 и настаивает на ее идеологической и стилистической автономии:
При такой творческой обаятельности лучшего произведения Бизе невольно отпадает мысль о какой-либо его обусловленности извне536.
К середине 1930-х он уже утверждает, что
<…> в своей деятельности Бизе тесно связан с французской реалистической литературой своего времени. В его творчестве последовательно замечается отход от позиций романтической оперы к утверждению жизненной правды. Его лучшая опера – «Кармен» – яркое художественно-законченное произведение из жизни городского пролетариата537.
Более того, по его версии,
<…> нет сомнения в том, что неуспех «Кармен» у парижского обывателя вызван был организационным классовым сопротивлением против пролетаризации оперного сюжета. <…> Опера «Кармен» написана через четыре года после падения Парижской коммуны, и провал ее был триумфом торжествующей крупной буржуазии538.
Тезис о связи оперы Бизе с историей Парижской коммуны также становится с середины 1930-х годов расхожим. Исключения редки и показательны как последние попытки «инакомыслия» в сфере интерпретации этого шедевра. Таким исключением предстает брошюра о Бизе Кремлева, который, в частности, писал:
Элементы стихийного протеста, анархического бунтарства не исчерпывают сути «Кармен» и даже, пожалуй, не являются в ней главным. По своему объективному смыслу, несмотря на свои пора-зительные жизненность, реализм и демократизм, «Кармен» – антиреволюционное произведение <…> «Кармен» силами и средствами художественных образов вскрывает исторический крах как индивидуалистического романтизма (Хосе), так и мелкобуржуазного бунтарства-анархизма (Кармен). Они вытесняются новой могучей, самоуверенной силой (Эскамильо). <…> И в «Кармен» симпатии Бизе остаются на стороне контрабандистов, богемы, на стороне романтического анархизма. <…> Он не видит и не понимает пролетариата. Он хоронит мелкобуржуазное бунтарство под поступью новой «героики»539.
Кремлев даже делает парадоксальный вывод о «капитуляции» Кармен перед новым «сильным» человеком, имея в виду ее интонационное «подчинение» Эскамильо в финале:
<…> не заметили того, что в четвертом действии Кармен – не сильная, а слабая фигура, что ее смелость перед смертью есть смелость отчаяния, а не убежденного героизма. <…> Конец третьего действия и все четвертое действие суть этапы падения анархической автономии Кармен540.
В духе вульгарно-социологических сближений, все еще характерных для этого периода, он утверждает даже, что
<…> в этом плане «Кармен» соприкасается с идеями французского реваншизма (после поражения в войне 1871 г.) и с идеями французского предъимпериализма541.
Однако сама его трактовка взывает к более близким историческим аналогиям: мысль о приходе «сильного человека» и поражении индивидуального анархизма могла быть порождена размышлениями о недавней российской истории, испытавшими явное влияние Ницше, на которого ссылается попутно Кремлев, хотя тот в эти годы стремительно утрачивал популярность у советских идеологов.
Неожиданно остро полемичным предстает и заключение автора о том, какими путями могло бы пойти искусство французского композитора, если бы не его ранняя смерть. Его прогноз весьма неутешителен:
<…> ни опера «Сид», ни оратория «Женевьева» не были записаны Бизе. Но, несомненно, в них должен был наметиться резкий творческий поворот. <…> Вероятнее всего, творчество Бизе двинулось бы в сторону гуманистической религиозности Цезаря Франка, отражая этим новый этап шатаний и мучительных поисков мелкобуржуазной идеологии542.
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Музыкальная классика в мифотворчестве советской эпохи"
Книги похожие на "Музыкальная классика в мифотворчестве советской эпохи" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Марина Раку - Музыкальная классика в мифотворчестве советской эпохи"
Отзывы читателей о книге "Музыкальная классика в мифотворчестве советской эпохи", комментарии и мнения людей о произведении.