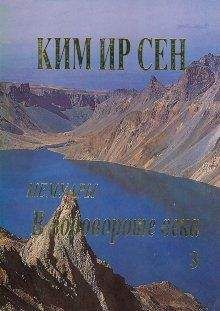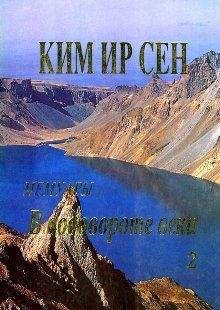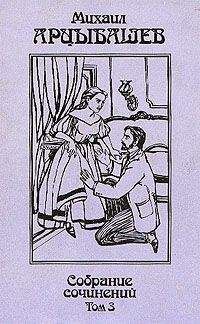Илья Серман - Свободные размышления. Воспоминания, статьи

Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.
Описание книги "Свободные размышления. Воспоминания, статьи"
Описание и краткое содержание "Свободные размышления. Воспоминания, статьи" читать бесплатно онлайн.
За 97 лет, которые прожил И. З. Серман, всемирно известный историк русской литературы XVIII века, ему неоднократно приходилось начинать жизнь сначала: после Отечественной войны, куда он пошел рядовым солдатом, после возвращения из ГУЛАГа, после изгнания из Пушкинского дома и отъезда в Израиль. Но никакие жизненные катастрофы не могли заставить ученого не заниматься любимым делом – историей русской литературы. Результаты научной деятельности на протяжении трех четвертей века частично отражены в предлагаемом сборнике, составленным И. З. Серманом еще при жизни. Наряду с работами о влиянии одического стиля Державина на поэзию Маяковского и метаморфозах восприятия пьес Фонвизина мы читаем о литературных интересах Петра Первого, о «театре» Сергея Довлатова, о борьбе между славянофилами и западниками и многом другом. Разные по содержанию и стилю работы создают мозаичную картину трех столетий русской литературы, способную удивить и заинтересовать даже искушенного читателя.
Ортодоксально-церковная точка зрения на деятельность Петра привела Яворского к резкому конфликту с правительством. Забыв свои собственные слова о мудром и рачительном хозяине (царе Петре), против которого бунт – это грех, Яворский в другой проповеди выступает в защиту религии и церкви против нарушителей «заповедей божиих», то есть против Петра: «Того ради не удивляйтеся, что многомятежная Россия наша доселе в кровных бурях волнуется; не удивляйся, что по толиких смятениях доселе не имамы превожделенного мира. Мир есть сокровище неоцененное; но тии только сим сокровищем богатятся, которые любят закон господень. Мир мног любящим закон господень и несть им соблазна, и кто закон божий разоряет, от того мир далече отстоит»163. И далее в проповеди Яворского возникает понятие «правды» как безусловного выполнения всех десяти заповедей: «Где правда, там и мир, правда и мир дело то изочтется, а где несть правды, там мира не найдеся; море, свирепое море – человече законопреступный! почто ломаеши, сокрушаеши и разоряеши береги? берег есть закон божий воеже любити всем сердцем»164.
Характерно для строя мыслей Яворского то, что неподвижной системе его понятий, в центре которой помещается «закон», то есть религия (вера), соответствует и методика аргументации, построенная на четком разграничении символов добра и зла. При этом любой предмет может стать знаком самого отвлеченного понятия, как в этой речи море стало символом человека-отступника от веры, а берег – символом религии.
В проповедях Прокоповича, убежденного сторонника петровских реформ и самого последовательного их апологета, представлена иная система понятий. Традиционные представления православного богословия соседствуют у Прокоповича с новыми правовыми представлениями о законе как социально-философском понятии, о месте этого «светского» научного понятия над всеми другими социальными институтами.
Отсюда то значение, которое Прокопович придает в своих проповедях правосудию, «правде», равенству граждан перед законом. Именно за соблюдение судебной правды Прокопович так восхваляет Петра: «Правосудие толикое есть, яко на престоле российском не человек, но самая правда сидети мнится. Кто ныне боится смерти или раны, защиту имея неподвижную? кто, немощен и убог сый, трепещет сильных крепости или богатых наваждения? Кому, аще и худейшему, страшно есть и ужасно благородие, преуспевание или достоинство?»165
«Правда» как политическое понятие имеет свою долгую и интересную судьбу в русской публицистике XVI – XVII веков166.
Проблема «правды» и ее конкретного выражения – правосудия – чрезвычайно занимала общественную мысль эпохи реформ. Посошков, например, посвятил особую, третью главу своей «Книги о скудости и богатстве» «Правосудию». Он пишет: «Бог – правда, правду он и любит. И аще кто возхощет богу угодити, то подобает ему во всяком деле правда творити… Понеже судья судить имянем царским, а суд именуется божий, того ради всячески судье подобает ни о чем тако не стараться, яко о правде, дабы ни бога, ни царя не прогневити»167. Посошков удивляется тому, что «у нас вера святая, благочестивая и на весь свет славная, а судная росправа никуды не годная»168.
«Правда», которую Посошков хочет видеть в русском общественном строе, и особенно в действиях административной машины – в первую очередь суда, оставалась настоятельным требованием сколько-нибудь прогрессивных деятелей до самой судебной реформы 1865 года. Слова и требования Посошкова представляют своего рода реально-исторический комментарий к речам Прокоповича, к его официозному истолкованию понятия «правды». Ибо нужное Петру публицистическое слово должно было целиком подчиниться его делу, а практическое осуществление идеи регулярного государства происходило в формах и условиях, очень далеких от идеального понятия «правды», так подробно обоснованного Прокоповичем.
В поисках словесной формы, наиболее отвечающей интересам его политики, Петр вынужден был сам заниматься вопросами «слога», писать и редактировать обращенную к нации, во всяком случае к ее грамотной части, литературу манифестов, указов, реляций о военных действиях и, уже в 1710-е годы, – литературу военно-политических итогов своего правления.
Стилистика церковной ораторской речи, высокого слога, слишком сильно была скована традициями, ей не хватало гибкости и убедительности. Ораторская речь церковных проповедников больше обращалась к чувству, нежели к разуму, она хотела от слушателей веры более, чем понимания.
8В представлении Петра слово должно было служить делу, прямо, без ухищрений и красот, вести к цели, объяснять и убеждать самим своим содержанием, внутренней логикой, а не ссылками на авторитеты.
В идеале Петр хотел добиться от слова понятийности и терминологичности. Пекарский приводит записку Петра Синоду от 19 апреля 1724 года с соображениями по поводу замышленного им нового катехизиса. Содержание его Петр определял так: «Изъяснить: что непременный закон божий, и что советы, и что предания отеческая, и что вещи средние, и что только для чину и обряду сделано, и что непременное, и что ко времени и к случаю пременялось, дабы знать могли, что в какой силе иметь»169.
Как видно из этой записки, главная цель нового катехизиса – отделить канон от обряда, первоначальное ядро христианского учения от позднейших наслоений и прибавлений, сосредоточиться на его нравственном содержании. Далее он поясняет, как это сделать, то есть какую стилистику применять: «О первых кажется мне, чтоб просто написать так, чтоб и поселянин знал, или на двое: поселянам простяе, а в городах покрасивее для сладости слышащих, как вам удобнее покажется… а особливо Веру, Надежду и Любовь: и о первой, и о последней зело мало знают и не прямо что и знают; а о средней (надежде. – И.С.) и не слыхали, понеже всю надежду кладут на пение церковное, пост и поклоны и прочее тому подобное, в них же строение церквей, свеча и ладон»170.
В этой записке принципы стилистики Петра очевидны. Ему нужно, чтобы верующий разумно и ясно представлял себе основные положения христианского этического учения. Он хочет, чтобы на смену суеверию и обрядам пришло сознательное постижение религии.
Разумеется, собственно стилевые поиски Петра определялись в первую очередь практическими нуждами государственного управления и ходом различных реформ. По мере того, как от частных мероприятий, вызванных сиюминутными потребностями войны, Петр пришел к идее планомерного переустройства всей жизни нации на основах разумно спроектированной модели регулярного правового государства, все большее значение приобретало публицистическое слово, его доступность и действенность. Поэтому, как нам кажется, совершенно прав Ю.С. Сорокин, когда он пишет о необходимости изучения в первую очередь публицистики петровского времени, а не того, что попадает в иногда условно определяемую нами сферу «литературы»: «Все, вероятно, согласятся с тем, что судить о языке петровского времени по очень ограниченному набору известных нам памятников повествовательного характера, поэтических и драматических произведений, претендующих на экспрессию и составленных по риторическим предписаниям проповедей и т.д., значит составить себе заведомо смещенное и неправильное представление о книжном языке этого времени, его возможностях, его стилях и его нормах». И далее исследователь предлагает в первую очередь изучать именно те виды публицистической и деловой письменности, в разработке которых участвовал Петр: «Складывающиеся нормы и образцы новых стилей этой поры надо скорее искать в документах деловых, хотя часто и не чуждых элемента выразительности, в указах и манифестах, в реляциях, памфлетах и полемических сочинениях, в “Ведомостях” и регламентах, в сборниках чисто дидактического характера, в первых переводах научных книг и технических руководств и т.д. и т.п.»171.
Стиль деловых бумаг и писем Петра изучался до сих пор более всего как характерное явление эпохи сшибки различных языковых пластов и неупорядоченности норм словоупотребления, тогда как в нем можно найти систему определенных, скорее всего стихийно выработанных принципов.
Смешение иронической «домашней» мифологии с привычной символикой православного церковно-книжного обихода было только одной из форм выработки нового публицистического стиля. Другим образцом соединения иронии и серьезности, глубокой мысли и шутки были для Петра басни Эзопа. В сущности, только басни из собственно художественной литературы входили в круг действительных интересов Петра и по его настоятельным указаниям многократно переиздавались. Только в баснях, по-видимому, Петр находил привлекавшее его сочетание художества и пользы, образа и наставления, объединенных в шутке, остроте, каламбуре. О том, как басня входила в мир его повседневных дел и забот, дает представление рассказ Вебера, который воспроизведен у Пекарского. Вебер услышал это от посланника одной державы (Австрии), прибывшего поздравлять Петра после Прутского похода: «Надежда царя на вспоможение одной державы не осуществилась, русские проиграли кампанию, заключили невыгодный мир, и тогда прибыл посланник той державы с поздравлением от имени своего государя, что Петр, своею мудростью и божеским заступлением, избежал великой опасности. Выслушав хладнокровно речь дипломата, царь, вместо ответа, спросил его, знает ли он по латине? и, получив утвердительный ответ, вынес из кабинета экземпляр басен Эзопа, нашел в них басню “Козел и Лиса” (которые оба попали в колодец, но лиса выбралась оттуда по рогам козла и стала над ним смеяться) и, указав это посланнику, покинул его со словами: “Желаю вам покойной ночи!” Я слышал, – прибавляет Вебер, – этот рассказ от самого посланника, еще и теперь здравствующего и сделавшегося известным министром»172.
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Свободные размышления. Воспоминания, статьи"
Книги похожие на "Свободные размышления. Воспоминания, статьи" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Илья Серман - Свободные размышления. Воспоминания, статьи"
Отзывы читателей о книге "Свободные размышления. Воспоминания, статьи", комментарии и мнения людей о произведении.