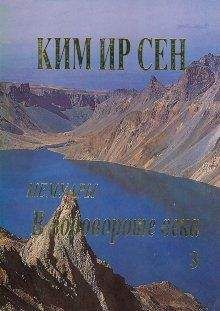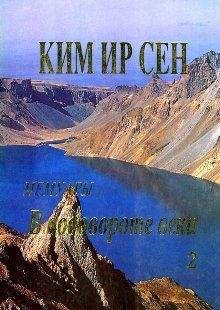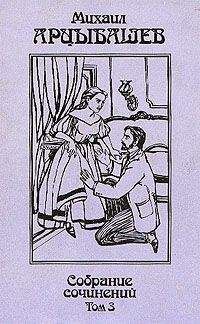Илья Серман - Свободные размышления. Воспоминания, статьи

Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.
Описание книги "Свободные размышления. Воспоминания, статьи"
Описание и краткое содержание "Свободные размышления. Воспоминания, статьи" читать бесплатно онлайн.
За 97 лет, которые прожил И. З. Серман, всемирно известный историк русской литературы XVIII века, ему неоднократно приходилось начинать жизнь сначала: после Отечественной войны, куда он пошел рядовым солдатом, после возвращения из ГУЛАГа, после изгнания из Пушкинского дома и отъезда в Израиль. Но никакие жизненные катастрофы не могли заставить ученого не заниматься любимым делом – историей русской литературы. Результаты научной деятельности на протяжении трех четвертей века частично отражены в предлагаемом сборнике, составленным И. З. Серманом еще при жизни. Наряду с работами о влиянии одического стиля Державина на поэзию Маяковского и метаморфозах восприятия пьес Фонвизина мы читаем о литературных интересах Петра Первого, о «театре» Сергея Довлатова, о борьбе между славянофилами и западниками и многом другом. Разные по содержанию и стилю работы создают мозаичную картину трех столетий русской литературы, способную удивить и заинтересовать даже искушенного читателя.
Особый круг впечатлений царевича был связан с присутствием на церковных службах в кремлевских соборах и монастырях, куда его брала с собой Наталья Кирилловна, а также с посещением загородных тогда монастырей: Новодевичьего, Страстного.
Уже подростком, после смерти отца, в правление Софьи Петр участвует в больших церковных действах. В вербное воскресенье (имеются записи за три года: 1683 – 1685), когда совершалось «шествие на осляти», Петр вел под уздцы лошадь, на которой восседал патриарх: «Из участия в юные годы в церковно-придворных церемониях он на всю жизнь хорошо усвоил весь состав богослужебного обихода»116. И в том числе церковное пение, в котором и сам принимал участие. К началу 1680-х годов относятся первые достоверные сведения о книгах, по которым учился Петр у Никиты Зотова, хотя, как справедливо заключает Богословский, это ученье дало Петру очень мало: «Грамоту, плохое уменье писать, выученный наизусть текст нескольких богослужебных книг и кое-какие отрывочные и бессистемные сведения по истории, географии и космографии»117.
И все же, несмотря на искреннюю преданность православию и всему бытовому, художественно очень последовательно оформленному дворцовому укладу, Петр постепенно от него эмансипируется, порывает с бытом и с искусством, этот быт оформлявшим, и с литературно-бытовыми словесными традициями. Резче всего этот разрыв проявляется в личной переписке Петра. Его письма к матери уже содержат в себе некоторое смешение традиционного, положенного по чину, и нового, делового. В отношениях со своими помощниками и собутыльниками, а также в своей переписке с ними Петр все больше и больше отходит от традиционных форм письменной речи. Так, в письме к Ф.М. Апраксину, которое пишется после смерти нежно любимой матери, наряду с цитатами из Писания и стилистикой псалтыри идут слова и выражения иной, деловой речи: «Беду свою и печаль глухо объявляю, о которой подробно писать рука моя не может, купно же и сердце. Обаче вспоминая апостола Павла “яко не скорбети о таковых”, и Ездры, “еже не возвратити день, а же мимо идее”, сия вся. елико возможно, аще и выше ума и живота моего (о чем сам подлинно ведал), еще поелику возможно, рассуждаю, яко всемогущему богу и вся по воле своей творящу (так угодно). Аминь. По сих, яко Ной, от беды мало отдохнув и о невозвратном оставя, о живом пишу. Понеже по обещанию моему, паче же от безмерной печали, незапно зде присетити хощу, и того для имам некия нужды, которые пишу ниже сего: 1. Посылаю Никласа да Яна для строения малого корабля, и чтоб им лес, и железо, и все к тому было вскоре готово, понеже рано приехать имеем. 2. Полтораста шапок собачьих и столько же башмаков разных мер сделать, о чем в готовности не сомневаюсь. И желаю от бога купно здравии компании вашей. Piter»118.
Постепенно в письмах Петра, касающихся даже очень важных дел, устанавливается особый, фамильярный, пародийный стиль.
А. Виниусу Петр пишет: «Пожалуй, поклонись всем нашим. Пространнее писать буду в настоящей почте, а ныне, обвеселяся, не удобно пространно писать, паче же и нельзя: понеже при таких случаях всегда Бахус почитается, который своими листьями заслоняет очи хотящим пространно писати»119. Такой стиль устанавливается в переписке «наших», то есть близких Петру людей, связанных и общим делом, и общим стилем развлечений и веселья. Этим же шутейным стилем написана реляция о Кожуховском походе: «Известное описание о бывшей брани и воинских подвиг между изящными господами генералиссимы князем Федором Юрьевичем и Иваном Ивановичем и коих ради причин между ими те брани произошли». По замечанию М.М. Богословского, «Описание» «составлено в стиле какой-то героической поэмы»120. Точнее было бы сказать – герои-комической. Ибо, как продолжает историк, «кожуховские бои сравниваются с Троянской войной, герой войны князь Ф.Ю. Ромодановский носит шутовский титул “Пресбургского, Парижского и всея Яузы одержателя”, а причинами войны выставляются пограничные столкновения между двумя генералиссимусами – государями, соседние “державства” которых разделялись только речкой Хопиловкой… – зависть, которой был уязвляем Иван Иванович к князю Федору Юрьевичу во время беломорского плавания, потому что Федор Юрьевич плыл на лучшем корабле»121.
Снижение высокого стиля в письмах, обыгрывание условной мифологии дружеского кружка поклонников Бахуса – все это было лишь частным проявлением полного разрыва Петра с художественной культурой, с детства его окружавшей.
Как писал с несомненным преувеличением, но все же основываясь на фактическом положении дел А. Успенский: «Петр I не особенно жаловал искусство, – он разогнал почти всех художников и иконописцев, работавших у нас в Оружейной палате, этой нашей национальной Академии художеств; он поставил крест на развитие русского национального искусства. Лишенные заработка в Оружейной палате, наши русские художники должны были искать себе пропитания на стороне, бывали даже случаи поступления бывших царских иконописцев в придворные истопники»122.
Отказываясь с таким легким сердцем от привычного, но немилого ему бытового уклада, а следовательно, и от искусства, которое с этим укладом было связано неразрывно, Петр не порывал с искусством как таковым окончательно и навсегда. Его «здоровое эстетическое чувство» не могло оставаться без всякой пищи, без всякого возбудителя художественных впечатлений.
3Философская мысль XVIII века не проводила такого резкого разграничения между художником и нехудожником, как это стали делать в эпоху романтизма, а затем и позитивизма XIX века. Лейбниц, например, видел в каждом человеке потенциального художника: «Поэтическая возбудимость, – писал он, – прирождена человеческой воле подобно тому, как эстетическое представление прирождено воспринимающей способности нашей души; она настолько присуща нашему духовному строю, что в большей или меньшей степени имеет место в душе каждого человека. Нет человека, совершенно неспособного к эстетическому чувству и к поэтическому возбуждению»123.
У Петра с его острой любознательностью и настойчивым интересом к ремесленным «художествам», ко всем видам современной ему машинной техники живое отношение к искусству могло появиться только тогда, когда искусство само стало бы одновременно отраслью современного ему мира механики и ремесленного умения. Красоты искусства, которые показывали Петру в европейских столицах, оставляли его совершенно равнодушным.
Лейбниц, к которому мы так часто обращаемся потому, что он был хорошо знаком с Петром и имел возможность наблюдать его близко и с ним разговаривать, – Лейбниц, вспоминая одну из своих встреч с Петром, писал: «Я очень сожалею о погибших во время пожара в Уайтхолле картинах Гольбейна. И все же я склонен согласиться с русским царем, сказавшим мне, что он больше восхищается некоторыми хорошими машинами, чем собранием пре-красных картин, которые ему показывали в королевском дворце»124. Пожар, о котором здесь говорится, произошел 4 января 1698 года в Уайтхолле Петр не мог, а смотрел он королевскую коллекцию живописи, по-видимому, в Кенсингтоне. Как пишет Маколей, основываясь на донесениях Лермитажа, Петр не обращал никакого внимания на художественные произведения, в этом дворце собранные, но очень заинтересовался прибором, показывающим направление ветра. Преимущественный интерес Петра к «художествам», то есть к прикладной механике, подтверждает Лейбниц и в письмах, написанных им во время его общения с Петром в Пирмонте и Герренгаузене в июне 1716 года. В письме к Бурге он суммировал свои впечатления от личности царя: «Я не могу довольно надивиться живости и уму этого великого государя. Он со всех сторон собирает около себя сведущих людей, и когда он с ними говорит, они совершенно поражены: с таким пониманием их дела он ведет с ними речь. Он осведомляется о всех механических искусствах, но главный его интерес сосредоточивается на всем, что относится к мореплаванию, и поэтому он любит также астрономию и географию»125.
Свидетельство Лейбница как будто подтверждает представление об отсутствии у Петра собственно эстетических интересов, о его полной поглощенности «механическими искусствами». На самом же деле именно «главный интерес» Петра – мореплавание – вовлек его в ту отрасль современной ему техники, где искусство в собственном смысле еще не отделилось от «механического искусства».
Его увлеченность мореплаванием в широком смысле включала в себя в первую очередь кораблестроение. Одной из основных целей первой поездки Петра за границу было освоение корабельного дела во всех его тонкостях, от простейших плотницких работ до законов корабельной архитектуры. Именно так объяснял сам Петр в предисловии к «Морскому уставу» (1720), что он хотел узнать на верфях Голландии и Англии.
Закончив в Голландии на верфях Ост-Индской компании обучение, «что подобало доброму плотнику знать», Петр, не удовлетворенный этой собственно ремесленной наукой, «просил той верфи баса Яна Пола, дабы учил его препорции корабельной, который ему через четыре дня показал, но понеже в Голландии нет на сие мастерство совершенства геометрическим образом, но точию некоторые принципии, прочее ж с долговременной практики, о чем и вышереченный бас сказал, и что всего на чертеже показать не умеет, тогда зело ему стало противно, что такой дальний путь для сего восприял, а желаемого конца не достиг. И по нескольких днях прилучилось быть е. в. на загородном дворе купца Яна Тесинга в компании, где сидел гораздо не весел, ради вышеписанной причины, но когда между разговоров спрошен был, для чего так печален? Тогда оную причину объявил. В той компании был один англичанин, который, слыша сие, сказал, что у них в Англии сия архитектура так в совершенстве, как и другие, и что кратким временем научиться можно. Сие слово е. в. зело обрадовало, по которому немедленно в Англию поехал и там чрез четыре месяца оную науку окончал»126.
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Свободные размышления. Воспоминания, статьи"
Книги похожие на "Свободные размышления. Воспоминания, статьи" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Илья Серман - Свободные размышления. Воспоминания, статьи"
Отзывы читателей о книге "Свободные размышления. Воспоминания, статьи", комментарии и мнения людей о произведении.