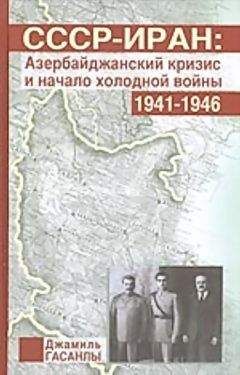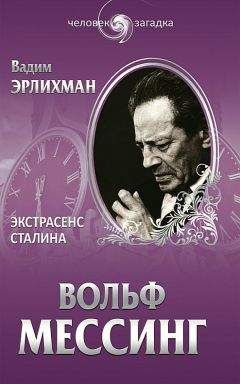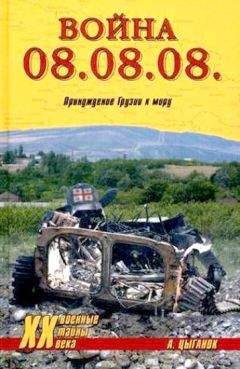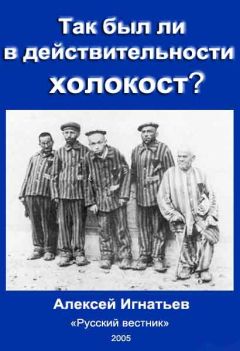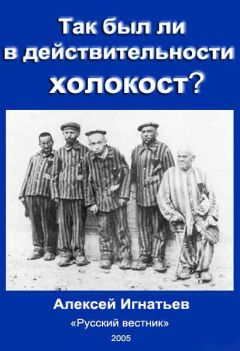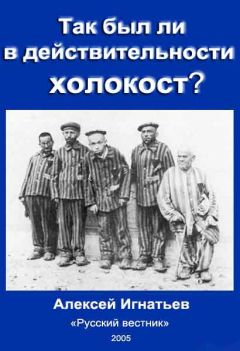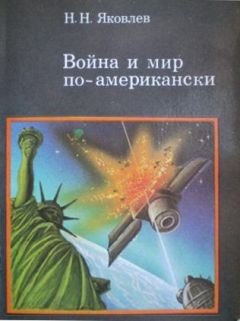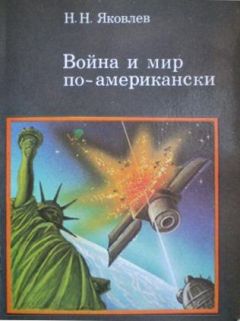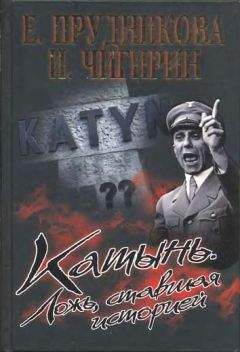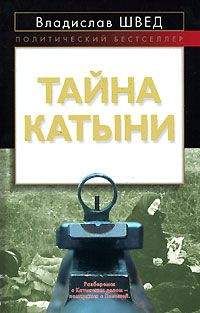Инесса Яжборовская - Катынский синдром в советско-польских и российско-польских отношениях

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Катынский синдром в советско-польских и российско-польских отношениях"
Описание и краткое содержание "Катынский синдром в советско-польских и российско-польских отношениях" читать бесплатно онлайн.
В книге анализируются исторические реалии, приведшие к катынскому злодеянию, — ликвидация Польского государства и его армии как одно из следствий подписания советско-германских договоров 1939 г. В центре исследования — многотрудная история Катынского дела, борьбы против замалчивания и фальсификации обстоятельств, причин и мотивов преступления, усилий по установлению лживости заключения комиссии Бурденко и всей советской «официальной версии», представленной в Нюрнберге. Обстоятельно показаны значение и роль Катыни как в советско-польских, так и в российско-польских отношениях — в течение Второй мировой войны и послевоенный период, в годы «оттепели» и «застоя», в период «перестройки» и коренных трансформаций рубежа нового века. Особо выделяются и рассматриваются 1990-е гг., когда была прорвана завеса тайны и сделан важный шаг в направлении примирения россиян и поляков, развития добрососедства и партнерства.
На этот раз прохождение решения, направленного Молотову, было несколько иным: его визировал «За-Молотов». Далее следовали визы Ворошилова и Сталина и секретарская помета «Т. Микоян — за, т. Андреев — за, т. Каганович — за, т. Жданов — за, т. Калинин — за». Оформление собственно решения, традиционно выделяемого из текста докладной, было аналогичным оформлению решений Политбюро. Текст выделялся абзацами, рассматриваемый пункт имел заголовок «Вопрос НКВД», отмечалось его направление в особую папку (ОП). Помета на тексте указывала на прохождение решения через Политбюро, протокол 8/61 от 13 октября. Кроме визирования этого решения партийно-государственной верхушкой, текст носит следы непосредственного редакционного участия Сталина, его красного карандаша в пункте о передаче пленных германским властям, с сокращением деталей, адресованных НКПС. Сталин укрупняет проблему, видя прежде всего ее международный аспект. Именно так она решалась с самого начала.
Проводившаяся при этом тщательная фильтрация предполагала изначально освобождение немцев из польского плена с предоставлением «возможности и средств» направиться или в германское посольство, или в расположение германских частей. Арестовывать немецких колонистов было запрещено.
Обмен пленными с Германией базировался и на доверительном протоколе-приложении к советско-германскому договору о дружбе и границе от 28 сентября 1939 г. Оба правительства обязались не препятствовать желающим переселиться в Германию или в «сферу германских интересов» немецким гражданам и другим лицам германского происхождения, а с другой стороны — желающим переселиться в СССР или в его «сферу» лицам украинского или белорусского происхождения, проживающим в «сфере интересов Германии»{24}. 16 октября состоялось решение СНК СССР об обмене военнопленными и интернированными, а 21 октября было подписано соответствующее советско-германское соглашение, в подготовке которого участвовал посол Ф. фон Шуленбург и замнаркома В.П. Потемкин. Во время проведения обмена (24 октября — 23 ноября) создавалась видимость соблюдения международной нормы: эшелоны оплачивали, формировали и доставляли органы НКВД, а передавали пленных представители наркомата обороны, чтобы продемонстрировать, якобы пленные находятся в СССР в ведении армии. Польские офицеры не передавались. Советская сторона отправляла рядовых, унтер-офицеров и офицеров — немцев по национальности, а также тех, за кого ходатайствовало германское посольство.
Количественные показатели были одного порядка (советская сторона поставила 42,5 тыс. чел., немецкая — 38.424). Но судьбы обмененных были различны: отправленные в Германию провели войну в шталагах; жители украинских и белорусских областей были на короткое время распущены по домам, а затем получили сроки по обвинению в шпионаже против СССР и в северных лагерях ГУЛАГа использовались на самых тяжелых работах — в шахтах никеля, на загрузке и разгрузке вагонов, на лесоповале — в самых нечеловеческих условиях{25}. По строгой инструкции из них сразу выявили офицеров и унтер-офицеров и заключили в спецлагеря.
Проблема «спецконтингента» и «спецлагерей» была в центре внимания как НКВД, так и руководства страны постоянно — в ходе пленения и многократных перевозок, тщательной селекции и фильтрации разных категорий задержанных, причисленных к категории «военнопленных». Об этом свидетельствуют многочисленные документы, в свое время снабженные целым набором грифов строгой засекреченности и лишь недавно не только открытых, но и изданных в многотомной совместной российско-польской публикации материалов, связанных с Катынским делом. Изначально была взята установка на строжайший учет и просеивание без «какой-либо самодеятельности», с предписанием держать до получения «дальнейших инструкций» и «детальных директив» те категории арестованных-пленных, которые уже при создании Управления по делам военнопленных должны были быть зарегистрированы в картотеке 1 спецотдела НКВД СССР «для отражения в учете антисоветского элемента». А это требование распространялось «на весь офицерский состав», с детализацией компромата (на «ведущих антисоветскую работу, подозреваемых в шпионской деятельности», на «примыкавших» к политическим партиям и организациям «контрреволюционного направления», которые перечислялись уже 15 сентября в упоминавшейся директиве Берии), а поскольку в польской армии партийно-организационная принадлежность была запрещена, эта рекомендация касалась гражданских лиц и мобилизованных резервистов{26}. Такой установкой сразу и однозначно были припечатаны ведомственным клеймом дальнейшие судьбы тех, в отношении которых инструкции строго предписывали «не допустить освобождения из лагерей кого-либо из вышеназванных лиц под видом солдата», полностью изолировать от советского населения и постоянно держать под наблюдением с возможностью применения репрессивных мер{27}.
При выработке «Положения о военнопленных» и «Правил внутреннего распорядка лагеря НКВД СССР для содержания военнопленных» статус пленных все более ущемлялся. Например, было вычеркнуто международно-правовое запрещение «применять к военнопленным меры принуждения с целью получения от них сведений о положении их страны в военном и иных отношениях», было изъято упоминание об институте назначаемых администрацией уполномоченных (определялись только старшие групп, комнат, бараков), на военнопленных распространялась уголовная ответственность по законам СССР и союзных республик, а дисциплинарные взыскания налагались в соответствии с Уставом РККА. Контролирующая же функция международных организаций фактически отменялась. Было снято положение о допуске представителей иностранных и международных краснокрестных и иных организаций для ознакомления с условиями содержания пленных. Утвержденное 20 сентября Экономсоветом при СНК СССР «Положение о военнопленных» содержало в пункте 30 абзац о немедленном сообщении в Исполком Союза общества Красного Креста и Красного Полумесяца об осуждении пленного к высшей мере наказания и приведении приговора в исполнение не ранее месяца после такого сообщения. Это положение никогда не соблюдалось, аресты и расстрелы тщательно скрывались, но свидетельства о них есть в реляциях узников ряда лагерей{28}. Возможность оказания помощи со стороны международных организаций формально признавалась, однако, когда польское правительство в эмиграции предложило ее оказать через посредничество Турции, Молотов в этом отказал. Исчезло положение об обмене списками военнопленных и о создании Центрального адресного бюро. Правда, пленным разрешалось подавать жалобы и заявления начальнику и комиссару лагеря, в УПВ и даже в правительственные органы СССР. Со всей очевидностью не было и речи об их освобождении согласно международному праву после окончания военных действий. Их будущее являлось внутренним делом сталинского руководства, и прежде всего НКВД, производным от курса на ликвидацию социально и политически активного слоя польского общества, устоев Польского государства.
Едва закончился сентябрь и набрало максимальные обороты перемещение пленных на советскую территорию, сопровождающееся их селекцией, как уже 1 октября Политбюро ЦК ВКП(б) образовало комиссию во главе с секретарем ЦК А.А. Ждановым для рассмотрения вопроса о военнопленных. На следующий день в нее был внесен подготовленный ее членами Берией (НКВД) и Мехлисом (НКО) проект постановления, который, будучи включен в представление на Политбюро, уже 3 октября был им принят со сталинскими правками.
Представление (докладная записка) поступило с грифом «совершенно секретно» на бланке НКВД с подписями Берии и Мехлиса и указанием, что вносимые предложения предъявлены в комиссию Жданова. Сам же Жданов даже не присутствовал на узком составе Политбюро. О его согласии информирует лишь скромная секретарская помета: «т. Жданов — за». Завизировали документ лишь четверо ближайших лиц из сталинского окружения, оставивших свои подписи вслед за решительным сталинским росчерком: «За с поправками. Ст.». Это Микоян, Ворошилов, Молотов и Каганович.
Постановление относится и к польским, и к чешским пленным. Обращает на себя внимание то, что сталинский красный карандаш сразу вычеркивает предложение содержать чехов в качестве интернированных до окончания войны Англии и Франции с Германией, возможное место содержания, отделение офицеров от солдат. Чехи — карта в другой игре, и Сталин собственноручно вписывает: «Отпустить, взяв с каждого из них подписку, что не будут воевать против СССР». Это соответствует нормам международного права, выходя в сферу внешней политики (но и чехов не отпустили до 1941 г.). Польские дела рассматриваются в ином, внутреннем ключе.
Решая по пунктам вопросы роспуска по домам жителей Западной Украины и Западной Белоруссии, строительства дороги Новгород-Волынский—Львов силами 25 тыс. пленных, возвращения «в немецкую часть Польши» и распределения остальных по лагерям, Сталин своим подчеркиванием четко дифференцирует солдат и офицеров, лично определяет, где последние будут размещаться — в Старобельске, где во времена Гражданской войны содержалось белое офицерство{29}.
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Катынский синдром в советско-польских и российско-польских отношениях"
Книги похожие на "Катынский синдром в советско-польских и российско-польских отношениях" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Инесса Яжборовская - Катынский синдром в советско-польских и российско-польских отношениях"
Отзывы читателей о книге "Катынский синдром в советско-польских и российско-польских отношениях", комментарии и мнения людей о произведении.