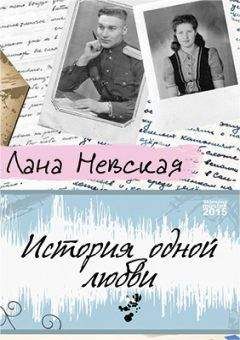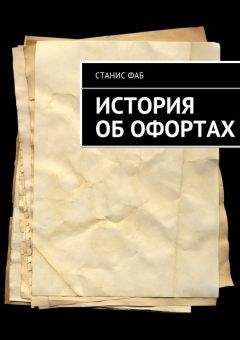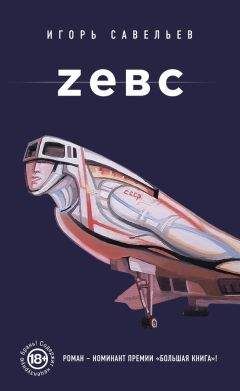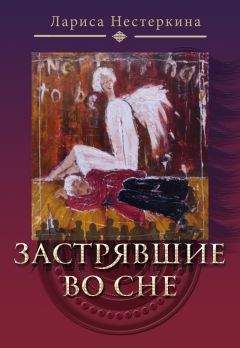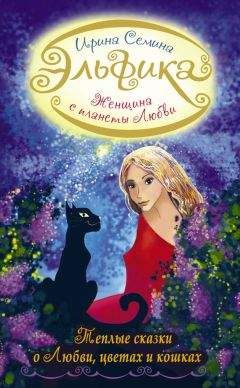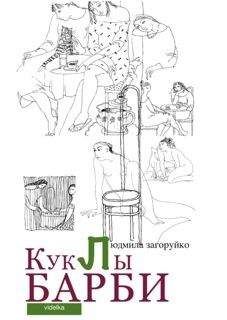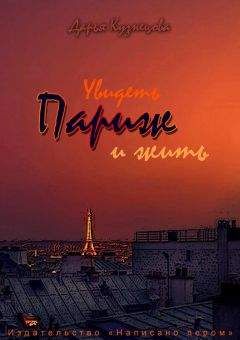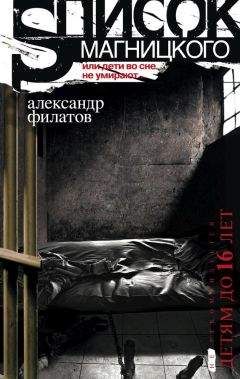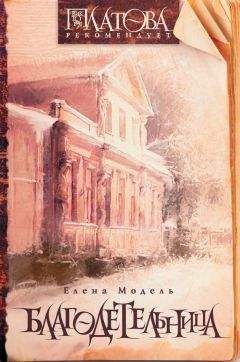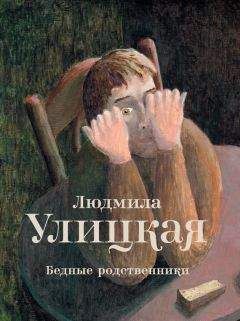Александр Товбин - Германтов и унижение Палладио

Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.
Описание книги "Германтов и унижение Палладио"
Описание и краткое содержание "Германтов и унижение Палладио" читать бесплатно онлайн.
Когда ему делалось не по себе, когда беспричинно накатывало отчаяние, он доставал большой конверт со старыми фотографиями, но одну, самую старую, вероятно, первую из запечатлевших его – с неровными краями, с тускло-сереньким, будто бы размазанным пальцем грифельным изображением, – рассматривал с особой пристальностью и, бывало, испытывал необъяснимое облегчение: из тумана проступали пухлый сугроб, накрытый еловой лапой, и он, четырёхлетний, в коротком пальтеце с кушаком, в башлыке, с деревянной лопаткой в руке… Кому взбрело на ум заснять его в военную зиму, в эвакуации?
Пасьянс из многих фото, которые фиксировали изменения облика его с детства до старости, а в мозаичном единстве собирались в почти дописанную картину, он в относительно хронологическом порядке всё чаще на сон грядущий машинально раскладывал на протёртом зелёном сукне письменного стола – безуспешно отыскивал сквозной сюжет жизни; в сомнениях он переводил взгляд с одной фотографии на другую, чтобы перетряхивать калейдоскоп памяти и – возвращаться к началу поисков. Однако бежало все быстрей время, чувства облегчения он уже не испытывал, даже воспоминания о нём, желанном умилительном чувстве, предательски улетучивались, едва взгляд касался матового серенького прямоугольничка, при любых вариациях пасьянса лежавшего с краю, в отправной точке отыскиваемого сюжета, – его словно гипнотизировала страхом нечёткая маленькая фигурка, как если бы в ней, такой далёкой, угнездился вирус фатальной ошибки, которую суждено ему совершить. Да, именно эта смутная фотография, именно она почему-то стала им восприниматься после семидесятилетия своего, как свёрнутая в давнем фотомиге тревожно-информативная шифровка судьбы; сейчас же, перед отлётом в Венецию за последним, как подозревал, озарением он и вовсе предпринимал сумасбродные попытки, болезненно пропуская через себя токи прошлого, вычитывать в допотопном – плывучем и выцветшем – изображении тайный смысл того, что его ожидало в остатке дней.
Липа, храня молчание, всё шире рот открывал, а Анюта, будто себе, себе одной, всё это, ныне общеизвестное, но тогда замалчиваемое, с упрямым бесстрашием повторяла и повторяла вслух:
– С волками жить – по-волчьи выть, но если я выть не выучилась…
Липин рот был уже открыт до предела, а кадык растерянно перекатывался.
– Локти, и так искусанные, больше себе кусать я не буду, хватит. Напротив, в своё оправдание скажу, ещё раз скажу: некому было довериться, некому, вот и самые смелые, самые изворотливые мыслишки мои прокисали, а вымученные, но так и не выговоренные слова… В конце концов слова из-за бесполезности своей вымирали, и безнадёжность душила, душила. О, послушали бы вы, дорогие мои, с каким апломбом поучали нас важные олухи-главначпупсы в гимнастёрках и френчах, сменившие прежних пустоглазых столоначальников, когда председательствовали на диспутах о строительстве великого всемирного будущего, которое они быстрым грубым наскоком себе подчинить хотели… уши вяли. Вы, надеюсь, знаете, как опротивели мне с той поры лозунги и призывы. И нищало и разлагалось всё вокруг, включая некогда священные камни, нищало и разлагалось, понимаете? Но ярость благородная моя запоздала, да и стоило ли пытаться судьбу обманывать? Моим полем боя уже становились мои же тихие ночные соображения. И память мне служила подспорьем, и вновь тщилась я вернуться туда, куда нет возврата. Ехала в забитом, злобно гомонящем трамвае, а прислушивалась к шуршанию нижних юбок, первым тактам бального танца, и давно прочитанные книги я вновь глотала, как эликсир, даже Чарская с Вербицкой меня возвращали в будто бы безоблачную когда-то жизнь. Так и тянула лямку, стиснув зубы, хотя мне, при ершистом нраве, нелегко было удерживать язык за зубами. Не стану лицемерить – своим, тише воды, ниже травы, поведением я не могла гордиться. Но – кто не без греха – что было ещё мне делать, если не размазывать давно просохшие слёзы, перемешивая слабеющие голубые мечты с бесполезными воспоминаниями? Мне нехорошо, если не сказать, тошно, было, а я и вспылить-то на людях не позволяла себе – чего добьёшься, от бессилья топоча каблуками, после драки кулачками размахивая? Чего? В лучшем случае – нервного срыва и грязной камеры, набитой лиговскими воровками, в кутузке на Шпалерной или в Крестах. Я съёживалась от отвращения, отчаянием исходила, однако, спасаясь от зловония, от трупного запаха, зажимала нос, хотя главного партийного мертвеца забальзамировали, как фараона, да ещё под стекло положили в ступенчатой пирамиде… Ежедневные гнусности и дурь с какого-то момента мне уже лишь прибавляли силы, ко всему понимала я, что при любом внутреннем напряжении своём всё равно останусь, если помягче выразиться, при пиковом интересе. Но старалась не унывать, в самые горькие минуты, когда чаша терпения переполнялась, твердила себе в утешение: не сахар, совсем не сахар, но бывает хуже, бывает хуже.
– Что хуже-то могло быть, что? – искренне удивлялся Липа.
– Хуже – все муки ада на земле, не в воображении, а на земле, когда потусторонний ад уже заколочен за ненадобностью своей, понимаешь?
И – признания-воспоминания прерывались – бом-бом-бом; Липа, глянув на настенные часы, машинально достав из жилетки карманные и установив точное время, уже осторожно наливал в чайную ложечку драгоценную настойку из женьшеневого корня, её доставал где-то в аптечных верхах Сиверский.
Анюта верила в женьшень, как в чудо, хотя и на исходе жизненных сил сама собой оставалась; тоже глянув на настенные часы, не могла Липе не указать: не пори горячку, есть ещё пять минут.
И виновато улыбнулась:
– Так, Юрочка, и живу я, в час по чайной ложке.
Липа, затыкая пробочкой пузырёк с женьшеневым зельем, посмеивался, а она спрашивала:
– Чему смеяться? Соль не в шутках уже, в суставах.
Тут же Липа торопливо подносил ей воду, чтобы запила горечь, а Анюта для порядка ворчала: не гони в хвост и гриву.
За что ей, добрейшей и справедливейшей из всех добрых и справедливых, выпало столь жестокое наказание?
«Страданье есть способность тел…» – Германтов шевелил на губах поэтические слова и понимал, что слова эти буквально относились к Анюте: невообразимой способностью страдать отличалось её маленькое, почти неподвижное тело.
Её страданья, её борьба с неутихавшей болью и нежелание смириться со своей участью наделили тогда Юру хотя бы зачатками сострадания? Пожалуй, нет, скорее вызвало детское удивление.
Солевое изваяние с живой душой?
– Душа изголодалась, – пожаловалась как-то Анюта.
Какой же пищи не хватало ей для того, чтобы живой в своём безысходном состоянии оставаться?
– Раньше я по радио заслушивалась Яхонтовым, давно это было, давно, когда он ещё порционно «Бедных людей» читал. А потом читал он всё хуже, хуже – когда за агитки Маяковского взялся, как ни старался ясно и громко каждое слово выговорить, будто кашу жевал, чудный голос вконец испортился.
– Яхонтов манией преследования потом заболел, – напомнил Липа.
– Не только он, все нормальные люди заболевали.
– Но он не пожелал дрожать по ночам от страха, гостей с понятыми не стал дожидаться – в окно с седьмого этажа выбросился, разбился.
Кивнула.
– А Мару Барскую помнишь? Она тоже из окна выбросилась.
– Да, – обозначила кивок, – многие выбрасывались.
– Но для Мары при её жизнелюбии это было так странно, никогда бы не подумал, что она способна…
– De mortuis nil nisi bene, – как отрезала.
* * *Губы её не двигались, почти не двигались, хотя способны были выражать целую гамму чувств с помощью кислых, сладких или кисло-сладких улыбок. Если же к слабым, еле различимым её улыбкам добавить блеск и едва заметное скольжение зрачков по глазному яблоку… Под конец своих дней она лишь обречённо моргала и медленно-медленно поднимала или опускала выцветшие выпуклые глаза. В них, казалось, застыло накопленное за долгие годы изумление, она словно не могла насмотреться на выпавшую ей жизнь, а отдельные слова произносила затруднённо, с неимоверным усилием, жутко-скрипучим каким-то, будто бы замогильным, хотя и способным ещё слабо варьировать интонации голосом. И регулярно слушала «Музыкальную шкатулку» по радио. И просила, чтобы на патефоне проигрывали ей «Прощание Славянки» или старинные вальсы: «Амурские волны», «На сопках Маньчжурии» в исполнении духовых оркестров – когда-то давным-давно возвышенно-тревожные мелодии, звучавшие по воскресеньям в ботаническом саду на Бибиковском бульваре или в парках над днепровским обрывом, чаще всего в свежевыбеленной по весне, к каждому новому сезону, оркестровой раковине близ Аскольдовой могилы, там, где заросли махровой сирени, густые-густые, – тронули чувствительное сердце Анюты. Теперь они облегчали её страдания, хотя изумлённые глаза, сколько бы ни слушала любимые марши, вальсы, были на мокром месте; впрочем, удивительно сплавлялось в ней всё подлинное, всё лучшее, что было в старых и новых временах, и потому повторяла и повторяла она тихонько простенькие слова: «Киев бомбили, нам объявили, что началась война». И она замолкала в память о своём деде-раввине, мудрость которого, столетнего тогда, не смогла спасти его от Бабьего Яра. И вот уже она обращалась в слух. Военные песни Великой Отечественной и волновали до слёз, щемили сердце – «а до смерти четыре шага», – и умиротворяли; едва заслышав «вьётся в тесной печурке огонь» или «ночь коротка, спят облака», или «слетает жёлтый лист», просила добавить громкости радио, замирала в беспокойном блаженстве, ни одна морщинка на лице не могла шевельнуться; и шептала потом, шептала, будто эхо песни в ней затихало: «Старинный вальс, осенний сон…»
И тут сентиментальность в ней, твёрдой, непреклонной, пробуждала уже Шульженко: «В запылённой связке старых писем мне случайно встретилось одно, где строка, похожая на бисер, расплылась в лиловое пятно…»
И – растворявшая волнение тишина, и, казалось, безмятежный покой; если бы не раскачивания маятника, можно было б подумать, что время остановилось.
И тут же свежий воздух затекал в открытую форточку, трепетала голубая, в мелкий белый горошек, муслиновая занавеска… И опять с блаженной улыбкой слушала она чириканье воробьёв, гуление голубей.
Но трамвай трезвонил, раздражающе скрежетал на повороте колёсами.
Бом-бом-бом – напоминали о себе часы, замолкали, а Липа машинально доставал из кармашка жилетки свои, швейцарские… А Анюта саркастически вопрошала:
– Ты куда-то спешишь?
И вдруг птица задевала крылом стекло, и стекло дрожало, дрожало, как струна контрабаса, и Анюта радостно вздрагивала…
И хлопала, будто пушка выстреливала поблизости от неё, у самого её уха, дверь от сквозняка, и опять радостно вздрагивала Анюта… Её страдания облегчались естественными голосами природы, высвобождавшей вдруг внутреннюю свою энергию; небо вздыхает, как-то прошептала; когда случался порыв ветра и доносился шелест листвы, когда шумно и весело, с ускоряющейся барабанной дробью крупных первых капель по жести проливался дождь, она внимательно смотрела, как подпрыгивали, перед тем, как рассыпаться в серебряную пыль, капли, а омертвевшие губы её трогала едва заметная и какая-то отрешённая, словно отслоившаяся от её эмоций улыбка… А как мечтательно вслушивалась она в завывания вьюги.
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Германтов и унижение Палладио"
Книги похожие на "Германтов и унижение Палладио" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Александр Товбин - Германтов и унижение Палладио"
Отзывы читателей о книге "Германтов и унижение Палладио", комментарии и мнения людей о произведении.