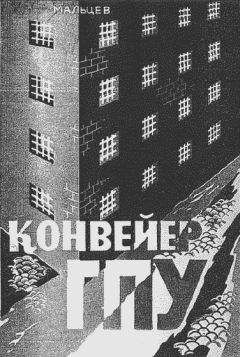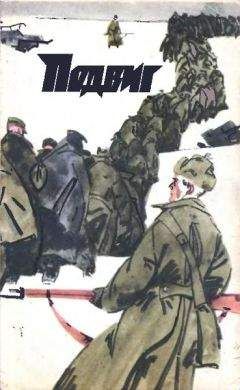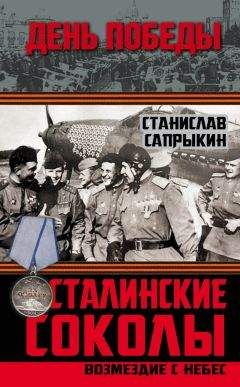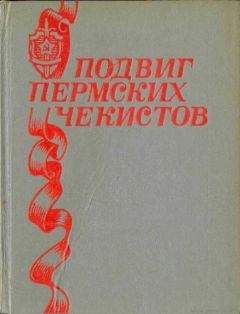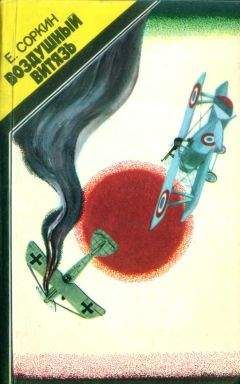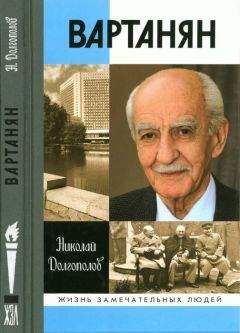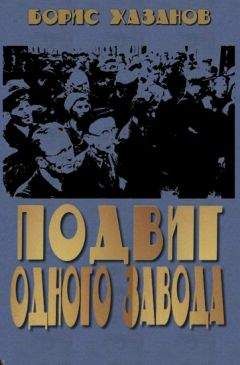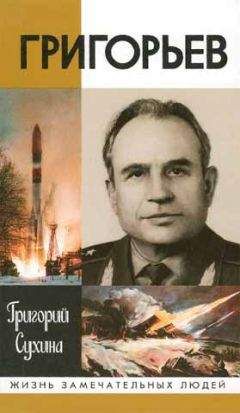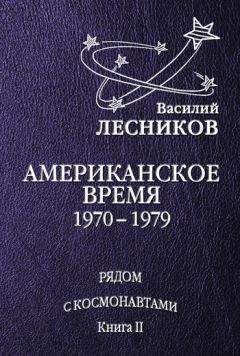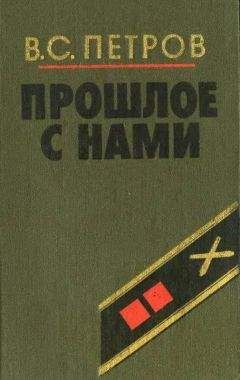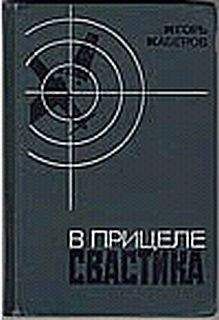Валерий Григорьев - Обречены на подвиг. Книга первая
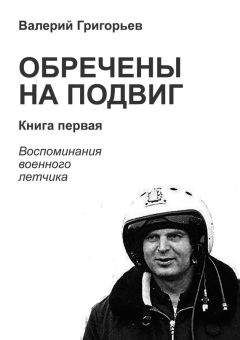
Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.
Описание книги "Обречены на подвиг. Книга первая"
Описание и краткое содержание "Обречены на подвиг. Книга первая" читать бесплатно онлайн.
Семидесятые-восьмидесятые годы прошлого столетия. Разгар «брежневского застоя», но еще не «развала» Вооруженных сил. Авиация Советского Союза достигает пика в своем развитии. На конвейер поставлено не только производство современнейших самолетов, но и подготовка пилотов. Десятая часть военных летчиков приносится в жертву выбранной профессии, обреченных на подвиг в мирное время, но они об этом не догадываются, потому и не все так грустно…
– Ты что же, Степаныч, на посадке недобираешь? Я ведь тебя так в следующий раз от полетов отстраню! – сурово грозится Морозов.
– А я тябя в жопу пацалую! – отвечает белорус Обухович. Взрыв хохота инструкторского состава сводит весь разбор на нет. Отстранить старого инструктора от полетов было все равно, что напугать ежа голой задницей. Выполняя в летную смену по пять-шесть полетов со своими подопечными, они кроме как высочайшей физической и психологической нагрузки ничего не испытывали и отстранение от полетов воспринимали как возможность отдохнуть.
Врач, который присутствовал на полетах, запомнил ошибку, которую допустил Обухович, и решил проконсультироваться у Цыбы, что это такое – «недобираешь». Цыба не упустил возможности подколоть доктора:
– Ты видишь, какое брюхо у Степаныча? А ведь это твоя вина: летчика с ожирением допускаешь к полетам! Вот он и недобирает ручку управления на посадке. Упирается она в его пузо.
Сам Цыба, несмотря на молодой возраст, был не намного тоньше Степаныча. Поймав взгляд доктора на своем животе, он пояснил:
– Я-то на посадке втягиваю живот в себя, а вот Степаныч или забывает, или сил у него не хватает, старый ведь.
– И что же делать?
– Очень просто, Степаныч—то стесняется попросить сделать ему по профилю живота изогнутую ручку, а ты можешь, как врач, подсказать командиру, чтобы для него ее сделали.
Доктор, у которого появилась хоть какая-то возможность проявить себя, помчался к Морозову с таким прекрасным, на его взгляд, предложением. И опять гремел гром, и сверкали молнии из командирского кабинета.
Прыжки на воду
В августе прилетел транспортник и увез нас в училище – выполнять парашютные прыжки на воду. Такие прыжки давали возможность приобрести необходимые навыки на случай катапультирования над водной поверхностью. Из-за неумения действовать в подобных ситуациях, в Союзе ежегодно погибали один – два пилота.
Для обеспечения плавучести нам выдали оранжевого цвета авиационные спасательные жилеты (АСЖ). Надувать их надо было после открытия парашюта через два мундштука – левой и правой камер.
Вместе с нами прыгал капитан Зуев. Он немного заикался, что, впрочем, несильно мешало его преподавательской работе. Себе он взял новенький АСЖ – с баллончиком со сжатым воздухом для штатного наполнения жилета. Франтовато красуясь перед нами в модных плавках и необмятом жилете, перед посадкой в самолет он дал нам последние инструкции. Стояла жара, и мы с нетерпением ждали возможности окунуться в чистые воды Сенгелеевки. Озеро было источником водоснабжения города, купаться в нем запрещалось. Городские власти для училища делали исключение, разрешая парашютные прыжки.
Накануне прыжков дотошные ПДСники провели опрос, кто умеет или не умеет плавать. Действую по принципу монашки «береженного Бог бережет», я записался в список «неумеющих».
И наступает день прыжков. Вот оно уже показалось, это живописное сине-голубое озеро. Его громадная чаша, окруженная плоскогорьем и холмами, поросшими лесом, сверху напоминала то ли кратер давно потухшего вулкана, то ли воронку от упавшего гигантского метеорита. Бесстрашно шагнув в распахнутую дверь и испытав ни с чем несравнимое чувство свободного падения и удовольствия после раскрытия парашюта, я спокойно надул спасательный жилет и с интересом рассматривал окружающие пейзажи. Мой ПД-47 опускал меня точно в центр озера. С трех сторон к предполагаемому месту моего приводнения, оставляя за собой белые буруны, неслись три катера.
– Ага, мое «неумение» плавать подействовало! – с удовлетворением подумал я, прикидывая какой катер меня быстрее «спасет». Несколько минут парения над живописнейшим озером, и вот подходит пора приводнения.
Расстегнув подвесную систему и выскользнув из нее перед самой водой, я с удовольствием окунулся в прохладу озера. Не успел вынырнуть, как меня уже тащили в катер несколько пар сильных рук. И тут же катера помчались в разные стороны подбирать других парашютистов. Мы помогали спасателям. Последним вылавливали капитана Зуева. Одной рукой держась за «запаску», второй пытаясь привлечь наше внимание, он регулярно с головой уходил под воду. Сначала я думал, что капитан придуривается, но когда мы стали его вытаскивать, стало понятно: опоздай мы на несколько минут – и вызывать бы уже водолазов. Потерявший все силы капитан весил килограммов девяносто, и затащить его на катер было не так-то просто. Пока мы его волокли, он упорно выговаривал одну единственную букву: «Ббб… ббб… ббб…». Поняв, что спасен, и наконец-то успокоившись, капитан сказал то, что хотел:
– Ббб… дь, жилет порвался.
Когда парашют открылся, он дернул «грушу» ввода баллончика, и его новенький жилет лопнул. То ли давление в баллончике было слишком большое, то ли высота была велика, а может, жилет был бракованный. Зуев, не умея плавать, едва не утонул. Спасла его «запаска», которая имела плавучесть до той поры, пока не промокнет.
Расстелив на просушку парашюты, мы, сочетая полезное с приятным, несколько часов учились пользоваться спасательной лодкой и средствами сигнализации.
На следующий день мы выполнили еще по одному прыжку и до конца дня наслаждались купанием. На сей раз у капитана Зуева был старый и обшарпанный жилет. Зато надежный.
Некоторым ребятам из Сальской эскадрильи на прыжках повезло не так, как нам. Одна из выбросок проводилась под мощным кучевым облаком. Как только раскрылись купола парашютов, дремавшее облако стало наполняться влагой и на глазах превращаться в грозовое. Словно гигантский пылесос, стало оно засасывать в свое чрево троих парашютистов. Их унесло за несколько километров от берега. Приземляться курсантам пришлось при сильном ветре. Получив различные травмы, бедолаги оказались в госпитале. Одного из них, получившего сотрясение мозга, врачи списали.
Нашел, увидел, победил
Ближе к осени мы улетели на «зимние квартиры» в Тихорецк. Базовый аэродром жужжал, как растревоженный улей, почти круглосуточно. Три эскадрильи, попеременно меняя друг друга, летали в три смены – две днем и одна ночью. Наша летала днем. Дневная программа была гораздо насыщеннее и интереснее ночной.
После отработки техники пилотирования и маршрутных полетов в простых метеоусловиях мы приступили к освоению воздушных боев и отработке групповой слетанности.
Как только я понял азы воздушного боя, сразу же стал их выигрывать, независимо от уровня подготовки противостоящего мне пилота. Дело в том, что в воздушном бою, как правило, выигрывает тот, кто первый обнаружит самолет противника. А за «противника» выступали наши инструктора на МиГ-17, или на УТИ МиГ-15, совмещая воздушный бой с «провозкой» другого курсанта. Сам того не осознавая, я обладал невероятной остротой зрения, и умудрялся найти найти «иголку» МиГа в стогу сена, вернее, в небесах. В авиации, при ведении визуальных воздушных боев, принято углы измерять в тысячных. Одна тысячная это угол, при котором длина дуги окружности соответствует одной тысячной её радиуса. То бишь, один метр на расстоянии одного километра, и будет соответствовать одной тысячной. Длина самолета МиГ-17 одиннадцать метров, размах крыльев десять метров. Не трудно подсчитать, что на дальности десять километров этот самолет и будет всего лишь в одну тысячную, а на расстоянии двадцать километров, половину тысячной. «Нормальный» человеческий глаз на таком удалении не способен выделить такой маленький предмет. Но то ли на фоне голубого неба, то ли органы зрения обострялись, но я всегда «находил» «вражеский» истребитель на дальности от двадцати до пятнадцати километров. Следовал доклад:
– Цель вижу справа, разрешите работу!
Инструктору не позволяло самолюбие сказать, что он не видит какого-то молокососа, он разрешал работу, разворачиваясь в мою сторону. Но вся разница была в том, что я то его видел, а он меня нет. Да и «загнуть» траекторию с перегрузкой семь-восемь единиц для девятнадцатилетнего юноши особых проблем не составляло. Так, что, обычно, за «половину» виража я выходил в «хвост», «обрамлял» своих учителей в перекрестие коллиматорного прицела своего истребителя, и с победным докладом:
– Атаку произвел, выхожу вправо, – выходил из поединка победителем.
Только по прошествии десятилетий, когда я стал призадумываться, почему же подавляющее число Героев Советского Союза стали таковыми в возрасте девятнадцать – двадцать один год, я понял, что именно в этих, «щенячьих» годах, летчик и обладает наибольшей остротой зрения. А помноженное это на присущую молодости бесшабашность и пренебрежение смертью, – в руках талантливого юнца. самолет становится опасным оружием. Моим победам, особо никто значения не придавал, да и сам я с «задранным» носом не ходил, хотя и «сбивал» всех, от инструктора, до заместителя командира полка. Успех в воздушном поединке давал возможность без задержек проходить программу летного обучения. Но, как правило, её проходили и менее удачливые курсанты. Инструктора, «уничтожившие» такого незадачливого пилота с первой атаки, снисходительно выходили вперед, подставляя себя в качестве «безобидной» мишени. В этом я убеждался не раз, когда летал с ними на УТИшке.
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Обречены на подвиг. Книга первая"
Книги похожие на "Обречены на подвиг. Книга первая" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Валерий Григорьев - Обречены на подвиг. Книга первая"
Отзывы читателей о книге "Обречены на подвиг. Книга первая", комментарии и мнения людей о произведении.