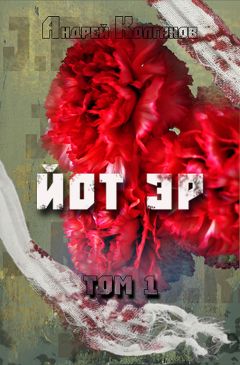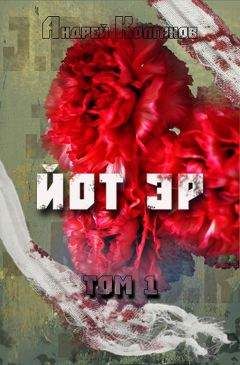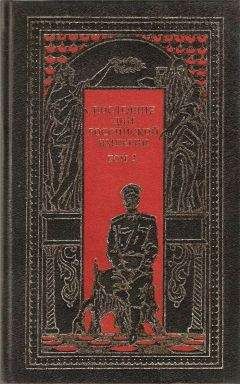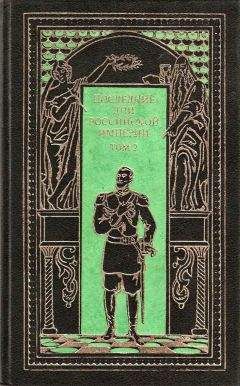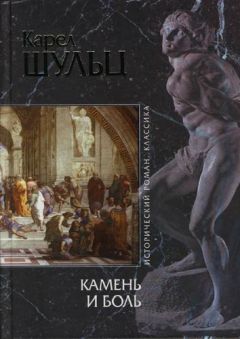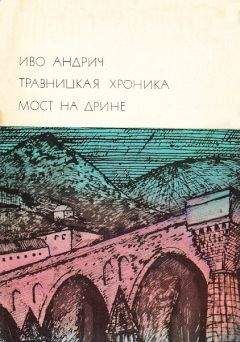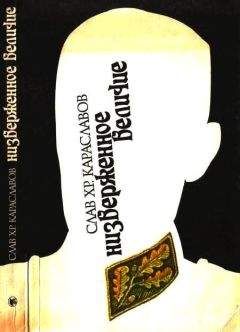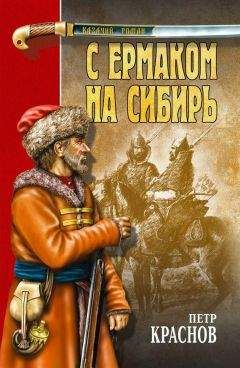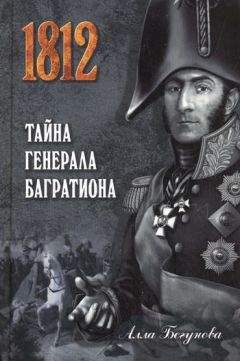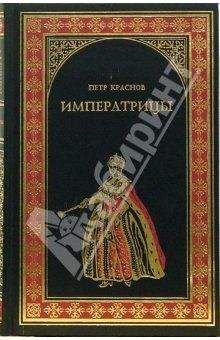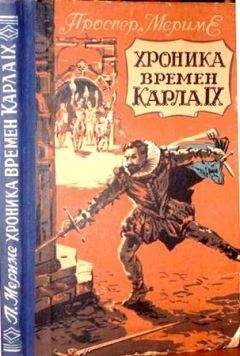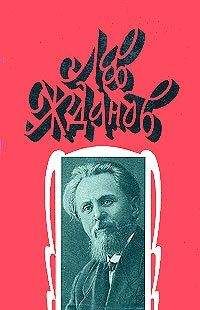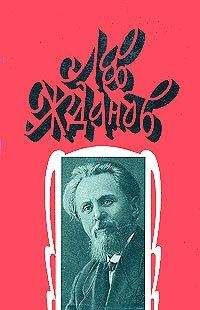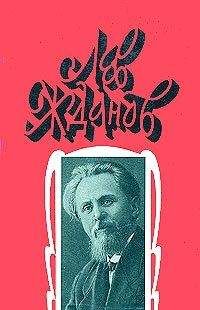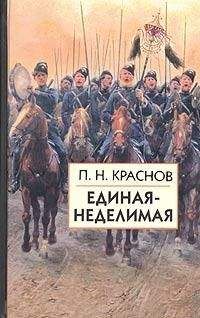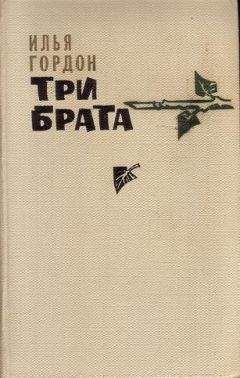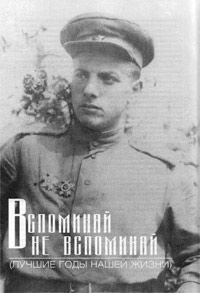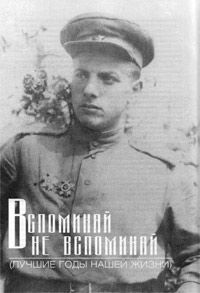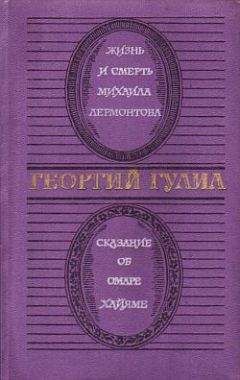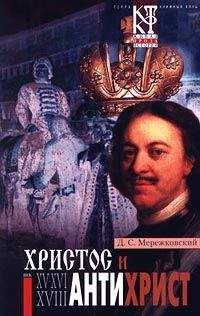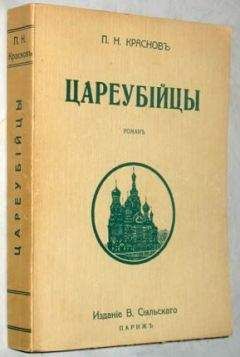Петр Сажин - Севастопольская хроника
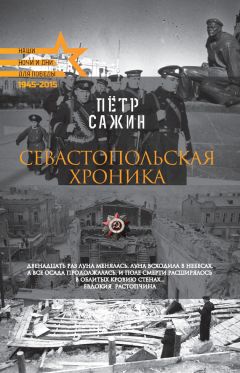
Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.
Описание книги "Севастопольская хроника"
Описание и краткое содержание "Севастопольская хроника" читать бесплатно онлайн.
Самый беспристрастный судья – это время. Кого-то оно предает забвению, а кого-то высвобождает и высвечивает в новом ярком свете. В последние годы все отчетливее проявляется литературная ценность того или иного писателя. К таким авторам, в чьем творчестве отразился дух эпохи, относится Петр Сажин. В годы Великой отечественной войны он был военным корреспондентом и сам пережил и прочувствовал все, о чем написал в своих книгах. «Севастопольская хроника» писалась «шесть лет и всю жизнь», и, по признанию очевидцев тех трагических событий, это лучшее литературное произведение, посвященное обороне и освобождению Севастополя.
«Этот город “разбил, как бутылку о камень”, символ веры германского генштаба – теории о быстрых войнах, о самодовлеющем значении танков и самолетов… Отрезанный от Большой земли, обремененный гражданским населением и большим количеством раненых, лишенный воды, почти разрушенный ураганными артиллерийскими обстрелами и безнаказанными бомбардировками, испытывая мучительный голод в самом главном – снарядах, патронах, минах, Севастополь держался уже свыше двухсот дней.
Каждый новый день обороны города приближал его к победе, и в марте 1942 года эта победа почти уже лежала на ладони, она уже слышалась, как запах весны в апреле…»
Чистое, высокое, и кажется, что оно поет!
А тогда, двадцать шесть лет тому назад, солнце жгло с яростью африканского темперамента, и все живое сохло, и над полуостровом носились запахи полыни, пыли, пороховых газов и крови. А в небе днем стояли неумолчные гулы авиационных моторов, раскаты орудийных выстрелов и вой бомб.
Получив «молнию» из редакции, я не успел подготовиться к этой опасной поездке, а по-журналистски, безоглядно воспользовался первой оказией (к счастью, это был лидер «Ташкент») и совершенно неподготовленным, то есть без соответствующей экипировки, без фотопленки и даже, как говорят военные, без личного оружия – пистолета – явился в осажденный Севастополь.
Огромная площадь у собора покрыта сочной травой, унизанной цветами, как мавританский газон.
Среди множества нежных цветов, среди маков, вспыхивающих огоньками то тут, то там, среди колокольчиков, ромашек и граммофонных труб повители и каких-то других, незнакомых мне южных клейких розоватых и темно-карминных, крепко-ароматных цветов, на бугорках пришедших в запустенье окопов и артиллерийских двориков виднелись крепкие головы татарника.
Того самого татарника, с описания которого Лев Толстой начал свою повесть «Хаджи-Мурат».
В куполе собора несколько проломов. Довольно больших – видны фрески сочного письма.
Собор закрыт – его здание опасно для посетителей.
Вокруг – воронки, они поросли бурьяном. В бурьяне и около кустарников хлопочут козы, не подозревая о значении и величии этой земли. Боже, какая проза!
В нескольких шагах от собора, под длинным навесом за проволочной сеткой, как в вольерах, стоят пифосы – огромные сосуды из обожженной глины. В них малоазиатские греки две тысячи лет тому назад держали пресную воду, солили рыбу и хранили зерно.
Пифосы подняты со дна бухты, возле бывшей набережной Херсонеса.
Глядя на пифосы, мы как бы смотрим в глубь веков.
Несколько шагов дальше к морю, и открываются раскопки Херсонеса; на фоне синего неба – одинокие белые колонны, полуразрушенные своды зданий: бани, мельницы, богатые дома, водоемы.
Шагая по мостовой, настеленной рабами две тысячи лет тому назад, я невольно вспомнил Аппиеву дорогу под Римом и мертвую Помпею.
Много дум вызывают свидетели угасших цивилизаций, былого могущества.
Мысленный взор, эта волшебная сила фантазии, способен под определенным впечатлением, как вспышка молнии в ночи, выхватить какой-то необычный мир, что-то стоящее на грани волшебства и скучной прозы обыденности, я на миг увидел далекую, необратимую и сказочно-удивительную жизнь.
Передо мной мелькнули, как перед иллюминаторами мчащегося с бешеной скоростью самолета, какие-то толпы людей, я услышал даже голоса, а затем глаза мои были ослеплены блеском золотых шлемов и необычайно яркими одеждами цвета пурпура и небесной лазури… Перед моим взором в бешеной скорости мгновенья промелькнули даже чьи-то длинные ресницы и жгучие глаза… Ширкнувшая под ногами крыса вернула меня к действительности…
Недалеко от раскопок древнего Херсонеса, на обрывистом берегу голубого моря, на металлической перекладине, укрепленной на двух каменных столбах, висит старый, позеленевший от соленых морских ветров, побитый пулями, осколками мин и снарядов и… камнями колокол.
Судьба его необычна. Сотруднику газеты «Слава Севастополя», молодому писателю Вениамину Теплухину, удалось разыскать в севастопольском городском архиве следующий документ: «Дело № 41. О возвращении из Франции колокола, плененного в Крымскую кампанию и висевшего в башне храма в Париже, начато в 1898 году». Папка содержит переписку дипломатов.
В результате этой переписки 23 ноября 1913 года колокол был возвращен в Севастополь. Почти шестьдесят лет провисел он на одной из колоколен Нотр-Дам де Пари.
У колокола боевая биография: по низу его вязью тянется следующая надпись: «Сей колокол вылит… Николая Чудотворец… в Таганр… из турецкой… артиллерии весом пу… ду… 1778 года лета август… числа».
По возвращении своем на родину колокол был поднят на новую деревянную колокольню.
Им не пользовались для сбора монахов к службе, но как только на море ложился плотный туман, он начинал подавать свой голос, чтобы капитаны судов знали, где они находятся и как надо поступать, чтобы избежать кораблекрушения.
В музее мне сказали, что у него высокий и чистый голос. Между прочим, он и до первой обороны Севастополя служил скитальцам морей своим звонким, легким и певучим голосом.
Язык его предупреждал в часы тяжелых и белых, непроницаемых, как саван, туманов и советские корабли, пока не был установлен ревун.
Моряки говорят, что и теперь, в наше время, если выходит из строя ревун, старый колокол вовремя подаст спасительный голос.
Раздается его звон порой и в ясную, совершенно безоблачную погоду – это озорники ребята-купальщики, упражняясь в меткости, прямо с пляжа кидают в колокол голыши. Но при этом не слышно его чистого и сильного бельканто, а раздается лишь стон. Так стонет ветеран, когда в непогоду ноют старые раны. Колоколу почти двести лет. За эти годы несчетно раз его хлестали дожди плакучие и ветры буйные, а уж сколько раз во время войн клевали его пули да осколки снарядные!
Берег, тянущийся влево от колокола в сторону Стрелецкой бухты, дик и обрывист. Нарытые во время войны траншеи и артиллерийские дворики обмелели и заросли переполошником.
Берег этот можно было бы принять за часть необитаемого острова, если б внизу, у больших камней, где на крупный галечник набегает морская волна, не было всепроникающих «диких» курортников.
Большинство из них и не представляет себе, что тут было во времена дальние и близкие. Они отдыхают, и, вероятно, им «до лампочки» древняя и современная история этих мест. А меж тем у этого берега во время второй обороны Севастополя шла смертельно опасная война с минами – здесь без страха перепахивали прибрежные воды катерные тральщики Охраны рейдов, и среди них КТЩ № 82, которым командовал в 1941–1942 годах мичман Никитюк.
Мичман Никитюк!
Я на миг закрыл глаза и попытался представить его себе нынешним, то есть таким, каким он должен выглядеть сейчас, в 1968 году, но передо мной «стоял» тот Никитюк… Никитюк сорок третьего года: молодой, крепкий, как дуб, с зоркими глазами морехода, с дремучей бородой каштанового цвета. Никитюк-богатырь, в одиночку стаскивавший с мели мотоботы у Малой земли.
…Открыл глаза – никого, ничего, кроме обрывистого берега и темно-синего, с небольшой зеленцой моря. Море, налитое до краев под самый горизонт. Оно дремало в ленивом тепле.
Протащилось судно в Севастополь. Над головой промелькнул сверхзвуковой, и опять бездонное небо, бескрайняя синь воды и тишина.
Морякам это место известно как Стрелецкий рейд. Катерники с малых тральщиков и «морских охотников» знали здесь каждый дюйм – они тралили, прослушивали море, несли дозоры, встречали шедшие с моря корабли и затем проводили их через ворота бонового заграждения в Севастопольскую гавань. Сюда же, на Стрелецкий рейд, выводили корабли и подводные лодки, следовавшие из Севастополя в порты Кавказа или в море – «на поиск».
Весной 1942 года на Черном море не было места опасней для кораблей, чем этот рейд. Поистине легче было верблюду пролезть через игольное ушко, чем проскочить в Севастополь через Стрелецкий рейд.
Неприятельские батареи из Бельбека и Качи буквально засыпали снарядами фарватер. Лишь немногим кораблям эскадры, которыми командовали опытные командиры, удавалось прорываться сквозь блокаду.
…Вправо от колокола за коротким, острым мыском маленькая, уютная гавань древнего Херсонеса Таврического – Карантинная бухта.
Как я стремился сюда в сорок четвертом, чтобы найти хоть слабый след «Форта «Известия»! Хоть намек на судьбу моих товарищей!
У мыса на портовой площади перед штольнями, прикрытыми тяжелыми, посеченными бронебойными снарядами дверьми, – склад гидрографической «амуниции», тут вехи, баканы, бочки, буи. А дальше – колючая проволока. За нее «вход воспрещен».
Издали пришлось смотреть на то, что называлось во время обороны «Фортом «Известия». Теперь это просто дыра в обрывистом бреге. Пустая дыра, и ничего более. Правее – штольня, запертая толстыми дверями. За ними был штаб генерала Петрова.
К старости человек становится не в меру чувствительным – подымаясь из Карантинной бухты наверх к шоссе и шагая к троллейбусной остановке, что у новых домов, я остро почувствовал «перегрев» в сердце. По-видимому, прошлое сильно заряжено тем особым электричеством, которое все мы, кому выпало счастье четверть века тому назад быть здесь и остаться в живых, будем носить в своем сердце до последнего вздоха.
Нет! Не забыть нам тех дней! Дней, прожитых в июне 1942 года в Карантинной. Не забыть друзей-журналистов, героев солдат и матросов… Не забыть даже грядок в низинке бухты, грядок, засеянных укропом, петрушкой, редисом и луком на «перо»… Здесь, в осажденной крепости, и зеленый лук был солдатом!
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Севастопольская хроника"
Книги похожие на "Севастопольская хроника" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Петр Сажин - Севастопольская хроника"
Отзывы читателей о книге "Севастопольская хроника", комментарии и мнения людей о произведении.