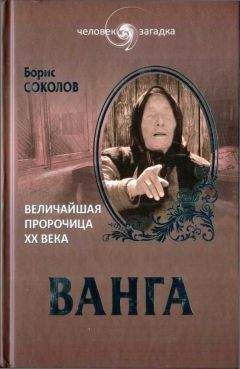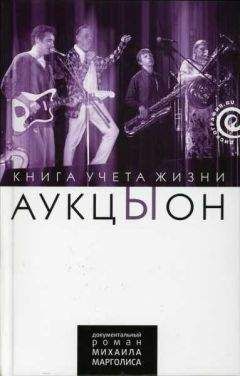Борис Соколов - Гоголь

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Гоголь"
Описание и краткое содержание "Гоголь" читать бесплатно онлайн.
Данная энциклопедия представляет собой наиболее полный (в одном томе) свод документов и материалов о жизни и творчестве Николая Васильевича Гоголя. …Задачу настоящей энциклопедии я вижу не в том, чтобы дать какую-то оригинальную трактовку образов Гоголя и событий его биографии, а в том, чтобы собрать воедино наиболее интересные и яркие суждения и факты, все богатство и разнообразие существующих мнений. Это поможет читателю представить себе Гоголя во всей его широте и противоречивости и составить свое мнение об авторе «Ревизора» и «Мертвых душ», выбрать для себя своего Гоголя.
13/25 января 1837 г. Гоголь из Парижа писал Н. Я. Прокоповичу: «Да скажи, пожалуйста, с какой стати пишете вы все про „Ревизора“? В твоем письме и в письме Пащенка, которое вчера получил Данилевский, говорится, что „Ревизора“ играют каждую неделю, театр полон и проч… и чтобы это было доведено до моего сведения. Что это за комедия? Я, право, никак не понимаю этой загадки. Во-первых, я на „Ревизора“ — плевать, а во-вторых… к чему это? Если бы это была правда, то хуже на Руси мне никто бы не мог нагадить. Но, слава Богу, это ложь: я вижу через каждые три дня русские газеты. Не хотите ли вы из этого сделать что-то вроде побрякушки и тешить меня ею, как ребенка? И ты! Стыдно тебе! ты предполагал во мне столько мелочного честолюбия! Если и было во мне что-нибудь такое, что могло показаться легко меня знавшему тщеславием, то его уже нет. Пространства, которые разделяют меня с тобою, поглотили всё то, за что поэт слышит упреки во глубине души своей. Мне страшно вспомнить обо всех моих мараньях. Они в роде грозных обвинителей являются глазам моим. Забвенья, долгого забвенья просит душа. И если бы появилась такая моль, которая бы съела внезапно все экземпляры „Ревизора“, а с ним „Арабески“, „Вечера“ и всю прочую чепуху, и обо мне, в течение долгого времени, ни печатно, не изустно не произносил никто ни слова, — я бы благодарил судьбу. Одна только слава по смерти (для которой, увы! не сделал я до сих пор ничего) знакома душе неподдельного поэта. А современная слава не стоит копейки».
В письме В. А. Жуковскому из Рима 6/18 апреля 1837 г. Гоголь признался, что ему «памятно до гроба то внимание», которое император Николай I оказал «Ревизору».
19 ноября (1 декабря) 1838 г. Гоголь из Рима писал М. П. Погодину о работе над новой редакцией Р.: «Ты хочешь по твоей редкой доброте и любви печатать „Ревизора“. Мне, признаться, хотелось бы немного обождать… Я начал переделывать и поправлять некоторые сцены, которые были написаны довольно небрежно и неосмотрительно. Я хотел бы издать его теперь исправленного и совершенного. Но если ты находишь, что второе издание необходимо нужно и без отлагательства, то располагай по своему усмотрению».
В. Г. Белинский в статье «Горе от ума», опубликованной в 1-м номере «Отечественных записок» за 1840 г., отмечал, что в Р. «поэт выразил идею отрицания жизни, идею призрачности, получившую под его художническим резцом свою объективную действительность… мы видим… пустоту, наполненную деятельностию мелких страстей и мелкого эгоизма… Двери отворяются с шумом, и вбегают Петры Ивановичи Бобчинский и Добчинский. Это городские шуты, уездные сплетники; их все знают как дураков и обходятся с ними или с видом презрения, или с видом покровительства. Они бессознательно это чувствуют и потому изо всей мочи перед всеми подличают и, чтобы только их терпели, как собак и кошек в комнате, всем подслуживаются новостями и сплетнями, составляющими субъективную, объективную и абсолютную жизнь уездных городков. Вообще с ними обращаются без чинов, как с собаками и кошками: надоедят — выгоняют. Их дни проходят в шатанье и собирании новостей и сплетней. Обогатясь подобной находкой, они вдруг вырастают сознанием собственной важности и уже бегут к знакомым смело, в уверенности хорошего приема. „Чрезвычайное происшествие!“ — кричит Бобчинский. „Неожиданное известие!“ — восклицает Добчинский, вбегая в комнату городничего, где все настроены на один лад, а особливо сам городничий весь сосредоточен на idee fixe… Такой наблюдательный, что даже в тарелки заглядывал! Боже мой, да если бы в эту минуту бедному городничему сказали о наблюдательности его кучера, он принял бы его за ревизора, отличительным признаком которого в его испуганном воображении непременно должна быть наблюдательность… Видите ли, с каким искусством поэт умел завязать эту драматическую интригу в душе человека, с какою поразительною очевидностию умел он представить необходимость ошибки городничего?.. В „Ревизоре“ нет сцен лучших, потому что нет худших, но все превосходны, как необходимые части, художественно образующие собою единое целое, округленное внутренним содержанием, а не внешнюю формою и потому представляющие собою особый и замкнутый в самом себе мир».
21 ноября (3 декабря) 1842 г. Гоголь из Рима писал М. С. Щепкину: «Позаботьтесь больше всего о хорошей постановке „Ревизора“! Слышите ли? я говорю вам это очень сурьезно! У вас, с позволенья вашего, ни в ком ни на копейку нет чутья! Да, если бы Живокини был крошку поумней, он бы у меня вымолил на бенефис себе „Ревизора“ и ничего бы другого вместе с ним не давал, а объявил бы только, что будет „Ревизор“ в новом виде, совершенно переделанный, с переменами, прибавленьями, новыми сценами, а роль Хлестакова будет играть сам бенефициант — да у него битком бы набилось народу в театр. Вот же я вам говорю, и вы вспомните мое слово, что на возобновленного „Ревизора“ гораздо будут ездить, чем на прежнего».
12/24 октября 1846 г. Гоголь из Страсбурга писал С.П. Шевыреву о новом издании Р.: «„Ревизор“ должен быть напечатан в своем полном виде, с тем заключением, которое сам зритель не догадался вывесть. Заглавие должно быть такое: „Ревизор с Развязкой. Комедия в пяти действиях, с заключением. Соч. Н. Гоголя. Издание четвертое, пополненное, в пользу бедных“. Играться и выйти „Ревизор“ должен не прежде появленья книги „Выбранные места“: иначе всё не будет понятно вполне». Об этом же издании он сообщал 21 октября (2 ноября) 1846 г. из Ниццы графине А. М. Виельгорской: «В Петербурге и в Москве будет играться „Ревизор“ в новом виде, с присовокупленьем его окончанья или заключенья, в бенефис двух первых наших комических актеров. Ко дню представления будет отпечатана пиеса отдельною книгою с присоединением доселе никому не известного ее окончания. Продаваться она будет в пользу бедных и может распродаться в большом количестве, стало быть, принести значительную сумму». В тот же день Гоголь писал П. А. Плетневу: «В Петербург приедет Щепкин хлопотать о постановке „Ревизора“… Прими Щепкина как можно получше… А „Ревизора“… поднеси… на процензурованье… присоединивши к тому и „Развязку Ревизора“… „Ревизор“ должен выйти вдруг разом и в Петербурге, и в Москве, в двух изданиях (на московском выставится четвертое, на петербургском — пятое)… От графини Анны Михайловны Виельгорской ты получишь „Предуведомленье к Ревизору“, из которого узнаешь, каким бедным собственно принадлежат деньги за „Ревизора“ и каким образом им должна быть произведена раздача». К письму А. М. Виельгорской было приложено «Предуведомленье к Ревизору», где говорилось: «Почти все наши русские литераторы жертвовали чем-нибудь от трудов своих в пользу неимущих: одни издавали с этой целью сами книги, другие не отказывались участвовать в изданиях, собираемых из общих трудов, третьи, наконец, составляли нарочно для того публичные чтения; один я отстал от прочих. Желая хотя поздно загладить свой проступок, назначаю в пользу неимущих четвертое и пятое изданья „Ревизора“, ныне напечатанные в одно и то же время в Москве и в Петербурге, с присовукуплением новой, неизвестной публике пиэсы: „Развязка Ревизора“. По разным причинам и обстоятельствам пиэса эта не могла быть доселе издана и в первый раз помещается здесь. Деньги, выручаемые за оба эти издания, назначаются в пользу тех неимущих, которые, находясь на самых незаметных и маленьких местах, получают самое небольшое жалованье и этим небольшим жалованьем, едва достаточным на собственное прокормление, должны помогать, а иногда даже и содержать еще беднейших себя родственников своих, словом, в пользу тех, кому досталась горькая доля тянуть двойную тягость жизни. А потому прошу всех моих читателей, которые сделали уже начало доброму делу покупкой этой книги, сделать ему и доброе продолжение. А именно: собирать по возможности и по мере досуга сведения обо всех, наиболее нуждающихся как в Москве, так и в Петербурге, не пренебрегая скучным делом входить самому лично в их трудные обстоятельства и доставлять все таковые сведения тем, на которых возложена задача вспомоществований. Много происходит вокруг нас страданий, нам неизвестных. Часто в одном и том же месте, в одной и той же улице, в одном и том же с нами доме изнывает человек, сокрушенный весь тяжким игом нужды и ею порожденного сурового внутреннего горя, которого вся участь, может быть, зависела от одного нашего пристального на него взгляда, — но взгляда на него мы не обратили; беспечно и беззаботно продолжаем жизнь свою, почти равнодушно слышим о том, что такой-то, живший с нами рядом, погибнул, не подозревая того, что причиной этой погибели было именно то, что мы не дали себе труда пристально взглянуть на него. Ради Самого Христа, умоляю не пренебрегать разговорами с теми, которые молчаливы и неразговорчивы, которые скорбят тихо, претерпевают тихо и умирают тихо, — так что даже редко и по смерти их узнается, что они умерли от невыносимого бремени своего горя. Всех же тех моих читателей, которые, будучи заняты обязанностями и должностями высшими и важнейшими, не имеют через то досуга входить непосредственно в положения бедных, прошу не оставить посильным денежным вспоможеньем, препровождая его к одному из раздавателей таких вспомоществований (в Петербурге Гоголь назначил в этом качестве княгиню О. С. Одоевскую, графиню А. М. Виельгорскую, графиню С. А. Дашкову, А.О. Россети, Ю. Ф. Самарина и В. А. Муханова, а в Москве — A. П. Елагину, Е. А. Свербееву, В. С. Аксакову, А. С. Хомякову, В. А. Панова, Н. Ф. Павлова и П. В. Киреевского. — Б. С.)… Считаю обязанным при этом уведомить, что избраны мною для этого дела те из мною знаемых лично людей, которые, не будучи озабочены излишне собственными хлопотами и обязанностями, лишающими нужного досуга для подобных занятий, влекутся сверх того собственной душевной потребностью помогать другому и которые взялись радостно за это трудное дело, несмотря на то, что оно отнимает от них множество приятных удовольствий светских, которыми неохотно жертвует человек. А потому всяк из дающих может быть уверен, что помощь, ими произведенная, будет произведена с рассмотрением: не бросится из нее и копейка напрасно. Не помогут они по тех пор человеку, пока не узнают его близко, не взвесят всех обстоятельств, его окружающих, и не получат таким образом вразумленья полного, каким советом и напутствием сопроводить поданную ему помощь. В тех же случаях, где страждущий сам виной тяжелой участи своей и в дело его бедствия замешалось дело его собственной совести, помощь произведут они не иначе, как через руки опытных священников и вообще таких духовников, которые не в первый раз имели дело с душой и совестью человека. Хорошо, если бы всяк из тех, которые будут собирать сведения о бедных, взял на себя труд изъясняться об этом с раздавателями сумм лично, а не посредством переписки: в разговорах объясняются легко все те недоразумения, которые всегда остаются в письмах. Всяк может усмотреть сам уже по роду самого дела, к кому из означенных лиц ему будет приличней, ловче и лучше обратиться, принимая в соображение и то, в каком деле особенно нужно сострадательное участие женщины, а в каком твердое, братски подкрепляющее слово мужа». Мздоимцам, осмеянным в Р., Гоголь противопоставлял нарождающийся российский «средний класс» бедных, но честных чиновников, истово и бескорыстно исполняющими свой служебный долг. Выразителем надежд и чаяний именно этого социального слоя выступал писатель. Таким людям он и собирался помочь новым изданием Р. Однако осуществить свое благородное намерение писателю не удалось. Уже 8/20 января 1847 г. Гоголь сообщил С. Т. Аксакову, что и издание, и представление Р. им отложены. Это было связано с переделкой заключения пьесы. Но ее издание в таком составе, вместе с «Развязкой Ревизора», так и не осуществилось, поскольку «Развязка Ревизора» не была разрешена к постановке театральной цензурой и вызвала возражение актеров, которым предстояло ее играть. М. С. Щепкин писал 22 мая 1847 г. Гоголю: «…До сих пор я изучал всех героев „Ревизора“ как живых людей… Не давайте мне никаких намеков, что это-де не чиновники, а наши страсти… это люди, настоящие живые люди, между которыми я взрос и почти состарился… Вы из целого мира собрали несколько лиц в одно сборное место, в одну группу, с этими людьми я совершенно сроднился, и вы хотите их отнять у меня». Около 10 июля н. ст. 1847 г. Гоголь ответил М. С. Щепкину: «Письмо ваше, добрейший Михаил Семенович, так убедительно и красноречиво, что если бы я и точно хотел отнять у вас городничего, Бобчинского и прочих героев, с которыми, вы говорите, сжились как с родными по крови, то и тогда бы возвратил вам вновь их всех, может быть, даже и с наддачей лишнего друга. Но дело в том, что вы, кажется, не так поняли последнее письмо мое. Прочитать „Ревизора“ я именно хотел затем, чтобы Бобчинский сделался еще больше Бобчинским, Хлестаков Хлестаковым, и словом — всяк тем, чем ему следует быть. Переделку же я разумел только в отношении к пиесе, заключающей „Ревизора“. Понимаете ли это? В этой пиесе я так неловко управился, что зритель непременно должен вывести заключение, что я из „Ревизора“ хочу сделать аллегорию. У меня не то в виду. „Ревизор“ „Ревизором“, а примененье к самому себе есть непременная вещь, которую должен сделать всяк зритель изо всего, даже и не из „Ревизора“, но которое приличней ему сделать по поводу „Ревизора“. Вот что следовало было доказать по поводу слов: „разве у меня рожа крива?“ Теперь осталось всё при своем. И овцы целы, и волки сыты. Аллегория аллегорией, а „Ревизор“ — „Ревизором“. Странно, однако ж, что свиданье наше не удалось. Раз в жизни пришла мне охота прочесть как следует „Ревизора“, чувствовал, что прочел бы действительно хорошо, — и не удалось. Видно, Бог не велит мне заниматься театром. Одно замечанье относительно городничего примите к сведению. Начало первого акта несколько у вас холодно. Не позабудьте также: у городничего есть некоторое ироническое выражение в минуты самой досады, как, например, в словах: „Так уж, видно, нужно. До сих пор подбирались к другим городам; теперь пришла очередь и к нашему“. Во втором акте, в разговоре с Хлестаковым, следует гораздо больше игры в лице. Тут есть совершенно различные выраженья сарказма. Впрочем, это ощутительней по последнему изданию, напечатанному в „Собрании сочинений“».
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Гоголь"
Книги похожие на "Гоголь" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Борис Соколов - Гоголь"
Отзывы читателей о книге "Гоголь", комментарии и мнения людей о произведении.