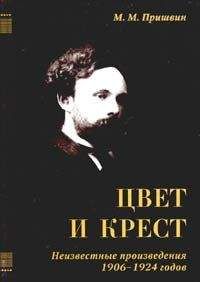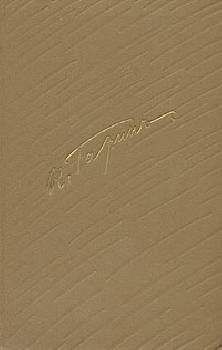Борис Зайцев - Том 2. Улица св. Николая

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Том 2. Улица св. Николая"
Описание и краткое содержание "Том 2. Улица св. Николая" читать бесплатно онлайн.
Второй том собрания сочинений классика Серебряного века Бориса Зайцева (1881–1972) представляет произведения рубежного периода – те, что были созданы в канун социальных потрясений в России 1917 г, и те, что составили его первые книги в изгнании после 1922 г Время «тихих зорь» и надмирного счастья людей, взорванное войнами и кровавыми переворотами, – вот главная тема размышлений писателя в таких шедеврах, как повесть «Голубая звезда», рассказы-поэмы «Улица св. Николая», «Уединение», «Белый свет», трагичные новеллы «Странное путешествие», «Авдотья-смерть», «Николай Калифорнийский».
В приложениях публикуются мемуарные очерки писателя и статья «поэта критики» Ю. И. Айхенвальда – лучшая из всего написанного о Зайцеве.
Наш «третий Рим»… каковы судьбы его? Если верить, что это «роковой» город, как верить, что и народ, его создавший, народ не случайный, что-то вкладывающий в мир первостепенное, – то Москве не сгинуть ни от каких варваров. Из самих варварств этих, как из средневековья после гуннов, лангобардов, готтов, может расцвести новая культура – с прежней, нашей, мало сходственная, но и нынешнее уродство переросшая. Если дыхание народа русского живо и длительно, то не обратиться никогда Москве в закрытый распределитель чинов ГПУ.
Что мы увидим из этого в нашей жизни? Это другой вопрос. И решается он возрастом, здоровьем и упрямством. («Не умру, пока не увижу новой жизни».) А пока можно только спокойно, не вдаваясь в меланхолию, следить воображением за текучестью, вечным движением нашего города – подобным золотому стру-ению в его бывшем куполе.
1932
Изгнание*
На русской литературе революция отозвалась сильно. Почти вся действующая армия писательская оказалась за рубежом. Одни бежали, других – преимущественно философов, историков, критиков – Троцкий выслал в 1922 году (и они бы должны собирать на памятник ему – одного, Шпетта, забыли, он вскоре и погиб на родине).
Ушедшие же добрались, так ли, иначе, до Запада. Запад пришельцев принял и дал возможность остаться тем, чем они были, складываясь сообразно облику своему в повороте судьбы нелегком, но дававшем писанию свободу.
Приблизительно, тут оказалось два пласта литературных: немолодые, уже известные в России дореволюционной, и следующее поколение – из них много поэтов – едва оперившееся, или еще оперяющееся в новой, необычной жизни. Так ли, иначе, все это была Россия, некие выжимки ее духовные.
Все разместились – по разным странам, сперва Европа (Париж, Берлин), потом Америка. Появились свои журналы, газеты, книги, издательства. Не имевшая прямого отношения к литературе, но бросавшая на нее высокий свой отсвет, появилась и стала быстро расти эмигрантская Церковь Православная, новые храмы, новое христианское просвещение.
Первое время и вообще в эмиграции, и в литературной ее части очень распространено было чувство: «Все это ненадолго. Скоро вернемся». Но жизнь другое показывала и медленным, тяжелым ходом своим говорила: «Нет, не скоро. И вернее всего, не видать вам России. Устраивайтесь тут как хотите. Духа же не угашайте» – последнее добавлялось уже как бы свыше, для укрепления и подбодрения.
Разумеется, общей указки нашему брату, наставления, о чем писать и как писать, никто и не думал давать, да и начальства такого не было, а если бы было, ему не подчинились бы. Но само собою, что нельзя же здесь прославлять деспотию, быть несвободным, подчиняться дирижеру.
Вот и поплыли литературные корабли. Главные силы их осели, спустя некоторое время, в Париже. (Центр берлинский быстро перекочевал в Париж. Прага дольше держалась, но с появлением в Чехословакии гитлеровских немцев тоже затихла.)
С чем прибыли, то и распространяли эмигрантские писатели: главное в этом было – Россия. Некогда Данте в какой-нибудь Равенне подолгу смотрел в сторону родной Флоренции, где садилось солнце и куда путь ему был заказан: Igne comburatur sic quod moriatur. (Мережковский некогда говорил, что патрон всей эмиграции литературной именно Данте.)
Полемика политическая – дело публицистов. Неполитические писатели продолжали свое, чисто-литературное дело. Конечно, очень сильна оказалась – особенно у старших – струя воспоминательная. Не то, чтобы все прошлое было прекрасно, но над ним веет забвением, услаждающим и украшающим. Что было и что ушло, становится для пишущего (да и читающего) трогательным особенно. (Тем более, что у многих это связывалось с молодостью, вступлением в жизнь, которая оказалась совсем не такой, как предполагали.)
В прозе художественной, да и стихах того времени очень мало обличения, противоборства. Мирное и поэтическое в прошлом гораздо более привлекало, чем война, кровь, насилие, страдания. (Но были и «крики души».)
Не называя имен, можно все же сказать, что в огромной части писаний эмигрантских за спиной стояла великая русская классическая литература. Русский «дух духовности» и гуманизма жив в ней, да и как не жить, если все на нем были воспитаны и им пропитаны?
По формам более процветали рассказ, повесть, лирика, или тяготение к древности русской. Были писатели разных пристрастий, реже других являлся роман. Он все-таки был, и странным образом сильней развился у более молодого крыла, менее «русского» специфически, скорее «европейского», но проникнутого духом эмигрантским. У читающих этот отдел имел большой успех. Роман даже исторический, и не из русской жизни. Была и линия мистико-историческая (у старших). Тут больше значила идейная сторона, а не изобразительная. Отзвук символизма русского начала века перекочевал и сюда.
Все же основным являлась плоть прежней жизни, овеянная ли лиризмом – даже у писателей не сентиментальных, или с оттенком автобиографичности. Особенного успеха на Западе эта литература иметь не могла, частью из-за трудности перевода настоящего русского писателя, частью по отсутствию «захватывающего» сюжета. Все же, в начале эмиграции в особенности, интерес к восточным пришельцам был, у культурной и не крайне левой части французской литературы и интеллигенции.
Наиболее ярко выступило это в присуждении Нобелевской премии русскому, Бунину, в 1933 году. Был и советский кандидат, Горький, с именем всемирным, чего у Бунина не было. Но Шведская Академия предпочла бесподданного эмигранта.
В эмиграции русской это присуждение встречено было восторженно. Как бы «последние да будут первыми». (Среди многих приветствий было и веселое: поздравлял человек вроде рабочего, просил помочь и желал Бунину каждый год получать премию. Другая немолодая женщина заплакала: «И о нас, беженцах, вспомнили».) В самой же эмиграции, интеллигентской, собрания, чествования, превозношения.
Все это касалось круга писателей старших. Младшие – в большинстве, пожалуй, стихотворцы – стояли несколько особняком. Монпарнасс, знаменитое тогда кафе «Ротонда» (и другие, против него), русская богема, богема французская, не только пишущие, но и художники, Модильяни и Сутаны, легион полуизвестных, французских, неизвестных русских – другой мир.
Отношения между старшими русскими и младшими были неблестящие. Одна сторона мало замечала другую, мало ей интересовалась, младшая чувствовала себя полуобойденной, с самолюбием несколько уязвленным. Поводы к этому отчасти и были. Никто никого гением не считал, но были в обоих слоях такие, кто недовольства не скрывал.
Журналы, газеты эмиграции мало печатали молодых, смену из «Ротонды». Смена издавала свои книжечки, а позднее и свой журнал толстый.
Так тянулось до последней войны, все перебуравившей, разметавшей, да и время уносило одного за другим этих трудников нашего занятия. Была горсть, осталась после войны полугорсть, а теперь четверть, и скоро все станем воспоминанием.
Но ничего это не значит. «Жили, были» – всеобщая участь. Кому назначено судьбой делать свое что-то, да делает, и здесь, кто как умел, в меру данного ему, делал, а теперь большинство успокоилось навеки, а оставшиеся могут лишь вздохнуть, но тоже ждать часа своего, не выпуская из рук вожжей, коими править тебе дано в краткой жизни до последнего издыхания.
<1971>
Юлий Айхенвальд. Борис Зайцев*
На горизонте русской литературы тихо горит чистая звезда Бориса Зайцева. У нее есть свой особый, с другими не сливающийся свет, и от нее идет много благородных утешений. Зайцев нежен и хрупок, но в то же время не сходит с реалистической почвы, ни о чем не стесняется говорить, все называет по имени; он часто приникает к земле, к низменности, – однако сам остается не запятнан, как солнечный луч. Он душою своей возносится над «миром тесноты и тьмы», поднимается к Филону-философу, к предвечному божеству гностиков, но не гнушается и тем, что внизу. Это удивительное сочетание натурализма и поэтичности, эта наивная небрезгливость уверенного в себе хрустального писателя вызывает и в душе читающего то очищение, то аристотелевское «катарзис», от которого бесконечно далеки многие произведения современного слова. Чистый, насквозь пронизанный солнцем, верный сын его, Зайцев и сам пронизывает жизнь светом тихим, светом славы; он чувствует святость природы и человека, и это именно составляет его охрану, его палладиум в жизненных скитаниях, сквозь гущу грубой обыденности.
Он очень знает скорбь и горе; в «Спокойствии», например, неотразимо сильное и растрогивающее впечатление производит образ мальчика Жени, умирающего, не спасенного отцом-доктором. Был прекрасен этот Женя и благороден, «говорил литературно и с весом». Отец его, воплощенное и замкнутое в себе страдание, вдовец, так, внешне холодно, рассказывал о последних часах Евгения, своего единственного ребенка, единственного смысла своей угрюмой жизни: «Сегодня Евгений говорил мне: „Папа, я боюсь, как бы мне не умереть“… А потом Евгений обнял меня и говорит: „Папа, теперь я смерть вижу. Она вон там… Папочка, – говорит, – у меня холодают ножки. Погрей мне ножки, не давай меня смерти. Очень, – говорит, – прошу тебя: не давай!“ Так. Вот он мне и сказал это». Женя умер, но отец его остался жив и, обыкновенно серый и сдержанный, теперь просветлел, и слезы пошли по его лицу. Это и характерно для Зайцева: он чувствует страшное, и страшны его спокойные слова: «диагноз оказался простой – чахотка»; но мир посылает ему свои целительные волны, дает великое «спокойствие», не отдает его, как Женю, смерти, нравственной смерти и холоду. И один из самых страдающих героев, побеждая свое страдание, поднимаясь над болью своею, говорит: «Цветут ли человеческие души, – ты даешь им аромат; гибнут ли – ты влагаешь восторг. Вечный дух любви – ты победитель». Именно повелительность духа любви слышится на страницах Зайцева, и когда стоишь вместе с ним, в его излюбленной Италии, на берегу Адриатики, то хочется провозгласить какую-то мировую здравицу, хочется «зачерпнуть адриатической воды и плеснуть ею к месяцу: в честь любви, друга, погибшего за нее на этих берегах, женщины, ушедшей с ним; в честь иного далекого сердца, иной страны». Смерть и гибель, наши катастрофы и кровь – это не касается нас, это не доходит до самой глубины, до самой средины нашего существа; это не мы умираем, это не мы страдаем, это не нас убивают; все это разбивается о то благостное и великое «спокойствие», о ту сокровенную безмятежность, о то возвышенное, во что облекает нашу душу непобедимый дух любви. И погибая, мы не испытываем ужаса гибели, и на устах наших – молитва миру; и уходя из жизни, мы, изгнанники потерянного рая, благословляем его, славословим эту жизнь, слагаем ей проникновенные хоралы и говорим ей, что она благодатна и прекрасна, – несмотря на смерть Жени с холодеющими ножками, несмотря на измену любимой женщины и всюду проливаемую кровь. Пусть изменила эта Лина, красавица пышная, – но в душу у того, кто ее любит, кого она разлюбила, воцаряется только «кроткая усталость» и покорность. Да будет благословенна любовь – за то, что она дала, за то, что она отняла, за свое прошлое и за свое настоящее; да будут благословенны все эти женщины! В чем их упрекать, за что ненавидеть? Их только можно любить «медленной, глубокой» любовью, с их белыми руками, с их жемчугом журчащим. Лину «зовет жизнь, она будет взята, она пройдет свой путь страсти, любви, наслаждения». Будет сидеть у ее ложа и страдать тот, кому она изменила, – но в этом есть свое счастье, свое «спокойствие».
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Том 2. Улица св. Николая"
Книги похожие на "Том 2. Улица св. Николая" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Борис Зайцев - Том 2. Улица св. Николая"
Отзывы читателей о книге "Том 2. Улица св. Николая", комментарии и мнения людей о произведении.