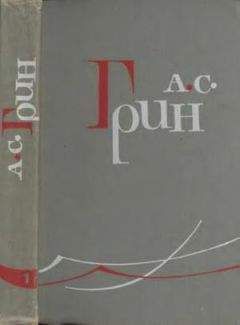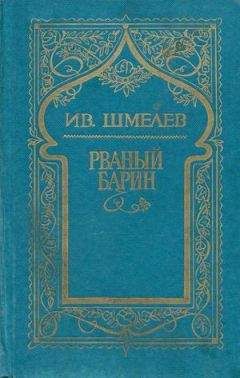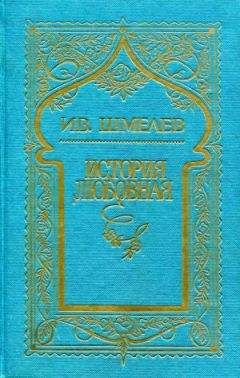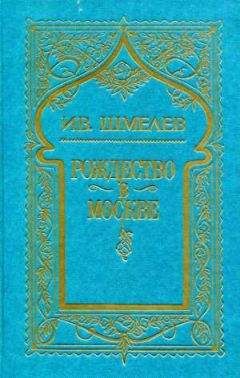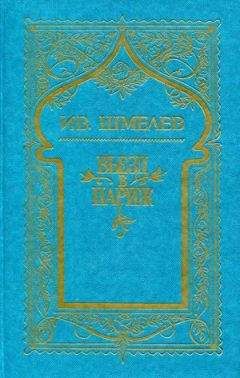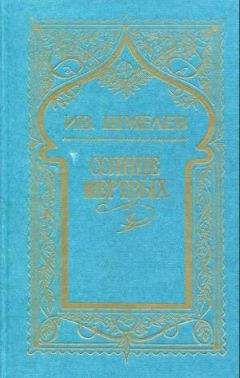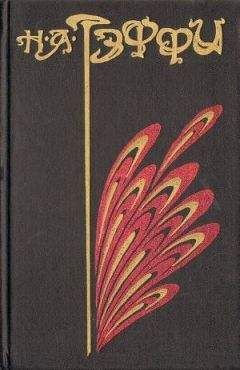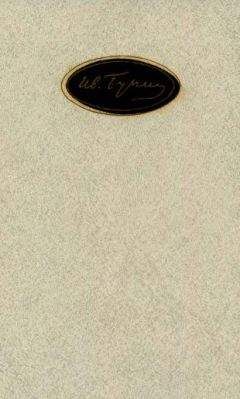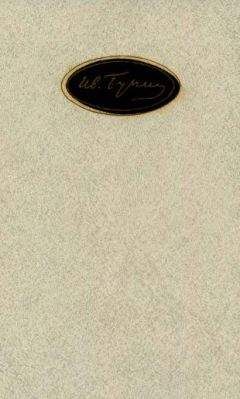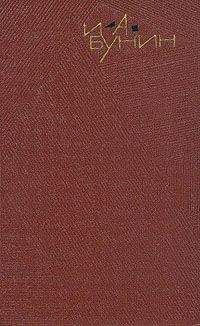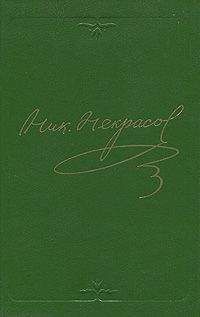Иван Шмелев - Том 7. Это было
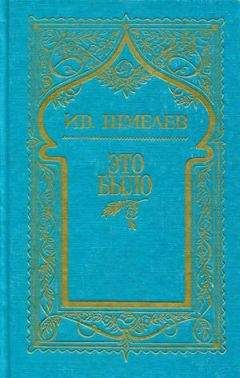
Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Том 7. Это было"
Описание и краткое содержание "Том 7. Это было" читать бесплатно онлайн.
В 7-й (дополнительный) том собрания сочинений И. С. Шмелева вошли произведения, в большинстве своем написанные в эмиграции. Это вещи малознакомые, а то и просто неизвестные российскому читателю, публиковавшиеся в зарубежных изданиях.
Ив. Шмелев
Автор уже хорошо известен: это тот самый К. Попов, который дал русской словесности – и не только словесности, а душе, памяти русской удивительную книгу «Воспоминания кавказского гренадера – 1914–1920 гг.», которая без смущения может стать рядом с «Севастопольскими рассказами» Толстого, по значительности, по силе, по безыскусственности, по «нехудожественности». Об этом уже писалось и такими знатоками в военном деле, как генерал Головин, и такими мастерами в искусстве слова, как А. И. Куприн и покойный Ю. И. Айхенвальд. Люди с пустой душой и мерочками на слово, люди с поползновением, а не с вдохновением, этого, конечно, не признают и не поймут, как они до сих пор не могут понять, что дала и продолжает давать зарубежная словесность. Выученики, а не творцы, они не знают вещего слова Пушкина:
Постойте… наперед узнайте, чем душа
У вас наполнена: прямым ли вдохновеньем,
Иль необузданным одним поползновеньем.
К. Попов, может быть и не сознавая, это знает. Его душа не только наполнена, но, пожалуй, переполнена «вдохновением» и потому-то так безыскусственно у него и порой нагромождено – им созданное. Оно подавляет правдой. И настолько значительно, что «украшающее перо» – излишне, как излишни и даже непристойны краски на памятнике героям-мертвым.
К. Попов так пишет:
«Остается добавить, что на голове у него молодцевато сидела защитного цвета фуражка с офицерской кокардой и опущенным на подбородок ремешком, а ноги были обуты в сапоги из черной кожи, доходившие ему чуть выше колен, чтобы получилось довольно типичное изображение одного из тех молодых русских офицеров, которые тысячами стояли в холодное сентябрьское утро на всей необъятной границе Российской Империи, обозначавшейся сейчас не географическими и этнографическими рубежами, а доблестью армии, ее духом, дисциплиной, выучкой и прочими неотъемлемыми качествами, которыми сильна была в то время Россия, имевшая впереди, на защите своих границ и чести – все здоровое, честное и мужественное» (стр. 37, «Гг. Офицеры»).
Или вот:
«Победителей сегодня не было, и противники, равно уставшие и изнемогшие от нервного напряжения в бою, постепенно прекращали огонь, и водворявшаяся тишина нарушалась лишь одиночными выстрелами любителей пострелять (!), да немецкая артиллерия изредка посылала очереди куда-то вдаль. Ее снаряды, жутко журча, высоко, высоко над головой, совсем далеко разрывались, – так негромко и мягко… Казалось, что немцы кому-то не дослали известной порции снарядов и теперь, подсчитываясь, все ошибались в расчете и досылали недоданное (!)» (стр. 26).
Так пишет К. Попов, русский офицер и кавалер ордена Св. Георгия, – с одной рукой. Иные, с двумя руками, не понявшие ничего в зарубежной русской литературе, но говорящие о ней иностранцам очень самонадеянно, этого не поймут, конечно, как и другого, многого. Вот и этого, например:
«Серая фигура, младший унтер-офицер Колпаков был мертв. Пуля угодила (!) ему в глаз, и минуту спустя, когда Колпакова отнесли в глубь леса, на дне его ямки сиротливо осталась лежать его фуражка, у большого темного сгустка крови…» (стр. 55).
Даже и этого не поймут:
«– Кого вы несете? – обратился командир к конвойным.
– Так что, поручика нашего Зотова…
– Куда он ранен?..
– Так что, ваше высокоблагородие, под самое сердце. Еще по дороге скончались. Они приказали передавать вам донесение, – сказал конвойный, откидывая шинель, которой было покрыто тело Ромы. – Вот их книжка…»
«„Командиры… полка. 1914 г. 28 ноября. 9 ч. 45 м….“
Подписи под донесением не было. Вместо нее отпечатался большой палец какого-то солдата, вымазанный кровью…» (стр. 79–81).
Не переписывать же всей книги! Вся она выросла из страшных зерен, бессознательно-щедро разбросанных уцелевшей рукой и переполненных сердцем офицера-писателя в его «Воспоминаниях кавказского гренадера». И выросла недаром. Этой книгой боевой писатель как бы довершает гордый и страшный памятник Русскому Офицеру и Солдату, мученику и рыцарю, заложенный в современной литературе нашей, зарубежной, писателем-генералом А. И. Деникиным – в его «Очерках русской смуты» и в книге «Офицеры». Довершает достойно – достойно и офицера русского, и словесности русской. И недаром берет за основу книги своей слова своего Начальника: «… Берегите офицера! Ибо от века и доныне он стоит верно и бессменно на страже русской государственности. Сменить его может только смерть» (Ген. А. И. Деникин).
Вся книга – стройный и славный… «Устав геройского Ордена» – «Русский Офицер». Вся книга – пример нашему молодому поколению, назидание – старшему, так мало берегшему своего достойнейшего брата офицера… – вся книга – ценнейший по своей сильной правде вклад в русское богатство – слово.
Апрель 1929 г.
Севр
(Россия и славянство. 1929. 8 июня. № 28. С. 2)
<Письмо в редакцию>
Многоуважаемый г. Редактор, Благоволите напечатать следующее мое обращение к моим читателям и к русской зарубежной общественности:
«За последние полтора года моей работы в газете „Возрождение“ я не раз испытал от заведующего лит. частью г. Маковского ничем не объяснимое насилие и „строгую цензуру“ над моими статьями, причем не всегда мог добиться достойной поддержки от редакции и издательства. Продолжая во многом разделять национально-патриотическое направление газеты, я все же прекращаю свою работу в ней, чтобы оберечь свободу писателя от насилия, а писательское свое лицо – от искажения.
Прошу русские зарубежные издания не отказать мне в напечатании этого заявления».
С совершенным уважением к Вам
Капбретон, Ланды
29 мая 1929 г.
(Россия и славянство. 1929. 8 июня. № 28. С. 2)
Памятки
…Если бы европейцы поняли все, что Россия сделала для мира доблестями и жертвами достойнейших, ныне тяжелым трудом добывающих хлеб на чужбине, израненных, потерявших здоровье, потерявших родину, но не утративших твердой надежды вернуть ее… – они снимали бы шляпы при встрече с каждым из героев наших и приветствовали бы почтительно верных своих друзей, исполнивших до конца свой долг. Но огромное большинство даже и понять не хочет, что особенно доблестного совершили русские воины, пребывающие незаметно среди народов. А придет время, и имя русский станет почетнейшим именем в Европе и в целом свете.
* * *…Благороднейший друг России – Александр, Король Сербов, Хорватов и Словен.
Он знает, что сделала Россия для Европы, для Его родины.
Он не признал насильников – убийц русской законной власти и не считает «СССР» – Россией.
Мудрый правитель, он государственно провидит, что Россия будет.
Герой, он чтит героев.
Истинно просвещенный, Он уважает духовную культуру. Перед всей Европой Он оказал высокую честь ученым и писателям России – эмигрантам. Он делил с ними царственную хлеб-соль, как когда-то делил сухарь со своими солдатами-орлами.
Король и солдат, Он сказал русским героям-инвалидам: «Вы – Мои».
…Русский тот, кто никогда не забывает, что он русский.
Кто знает родной язык, «великий русский язык», данный великому народу.
Кто знает свою Историю, русскую Историю – великие ее страницы.
Кто чтит родных героев.
Кто знает родную литературу, русскую великую литературу, прославленную в мире.
Кто неустанно помнит: «ты – для России, только для России!»
Кто верит в Бога, кто верен Русской Православной Церкви: Она соединяет нас с Россией, с нашим славным прошлым; Она ведет нас в будущее, в нагие; Она – Водитель наш, извечный, верный.
(<Часовой. 1929. № 11–12>. С. 20)
На семи ветрах, у семидесяти семи дорог…
Она уже истекла – «Неделя помощи русскому туберкулезному», и я, запоздавший, говорю как бы в пустоту. Нет, конечно. Нет пустоты, не может быть пустоты в душе русской, в нынешней душе русской, переполненной до краев страданием. Пусть и глуха душа, пресыщенная покоем, усыпленная мирным теченьем дней. Мы – тревожны, всегда тревожны. Такими были и в мирные времена – людьми беспокойной совести, такими и остались. И да будем всегда такими! Мы – русские, и наша душа – русская душа, такая загадочная для иностранцев – «l'ame slave». Правы они: многое непонятно им в душевном движенье нашем. Противоречий сколько! Сколько высоких взлетов – и какое жестокое паденье. Сколько безмерных испытаний – и такое покорное терпенье, во имя чего терпенье? И вера, что – все устроится. Во имя чего – такая вера? А она в нас живет, и ничто не в силах отнять ее: это мы знаем внутренне. Правда, в этом и слабость наша, в гульянье устроения; но в этом и наша сила, особая внутренняя сила, духовная: погибели нам не будет, мы знаем это. Так чувствует наш народ, весь народ, и мы, из него исшедшие, рассеянные в народах. Мы ждем. Мы ждем, и верим, и делаем. И будем делать. И дождемся.
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Том 7. Это было"
Книги похожие на "Том 7. Это было" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Иван Шмелев - Том 7. Это было"
Отзывы читателей о книге "Том 7. Это было", комментарии и мнения людей о произведении.