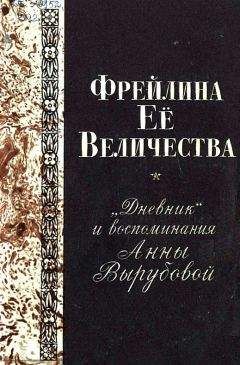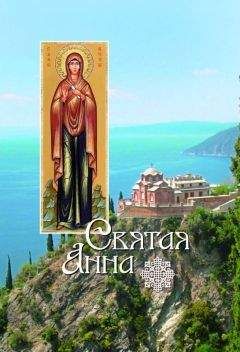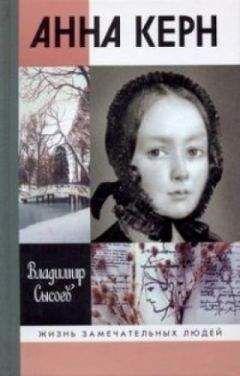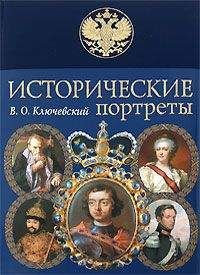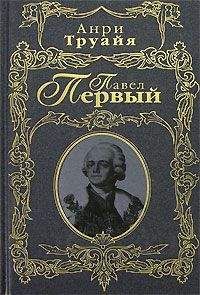Игорь Курукин - Анна Иоанновна

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Анна Иоанновна"
Описание и краткое содержание "Анна Иоанновна" читать бесплатно онлайн.
В судьбе Анны Иоанновны было немало крутых поворотов: природную русскую царевну, племянницу Петра I, по его воле выдали замуж за иноземного принца, полжизни провела она бедной вдовствующей герцогиней в европейском захолустье, стала российской императрицей по приглашению вельмож, пытавшихся сделать её номинальной фигурой на троне, но вскоре сумела восстановить самодержавие. Анна не была великим полководцем, прозорливым законодателем или смелым реформатором, но по мере сил способствовала укреплению величия созданной Петром империи, раздвинула её границы и сформировала надёжную и работоспособную структуру управления. При необразованной государыне был основан кадетский корпус, открыто балетное училище и началось создание русского литературного языка.
Книга доктора исторических наук Игоря Курукина, написанная на основе документов, рассказывает о правлении единственной русской императрицы, по иронии судьбы традиционно называемом эпохой иностранного засилья.
Аннинские министры, продолжая петровскую традицию, стремились развивать собственное сукноделие; четыре из каждых пяти суконных мануфактур, возникших за двадцатилетие после смерти первого императора, были основаны в царствование Анны Иоанновны. Однако в 1730 году российские «фабриканы» готовы были поставить только 124 тысячи аршин сукна, тогда как Военной коллегии требовалось почти 400 тысяч. В 1735 году они дружно отговаривались объективными трудностями: «Рунной шерсти здесь в России и в Малороссии мяхкой поярочной шерсти ж многова числа сыскать и купить негде»{537}. Приходилось непатриотично закупать шерстяные ткани за границей. Английское сукно качеством превосходило прусское, но товар «королевской прусской компании» Пелотье и Круземарка стоил на две копейки дешевле{538}.
С прусской компанией был заключён контракт на 170 тысяч аршин по 58 копеек, ещё 136 тысяч аршин должны были поставить англичане и 112 тысяч — отечественные производители; но борьба за русский рынок продолжилась. В итоге английские купцы победили при активной поддержке резидента Клавдия Рондо — торговый договор 1734 года снизил на треть пошлины с английского сукна. Тем не менее, если при Петре I 70 процентов армейских мундиров были сшиты из импортного сукна, то при Анне Иоанновне — половина.
Подготовленный Комиссией о коммерции во главе с Остерманом новый таможенный тариф 1731 года отказался от крайностей петровской политики: снизил ввозные пошлины на импортные товары с 75 до 20 процентов, отменил запретительное обложение экспорта льняной пряжи, тем самым заставляя «фабриканов» конкурировать с заграничными производителями и восстанавливая традиционные статьи экспорта. В то же время для развития отечественного производства предусматривалась отмена пошлин на ввоз сырья и инструментов{539}. Но, как и раньше, его рост достигался в первую очередь за счёт увеличения доли подневольного труда: закон 1736 года разрешал предпринимателям оставить в своём владении всех обученных ими свободных рабочих.
Именно при Анне Иоанновне Петербург стал превращаться в имперскую столицу. Согласно исповедным росписям 1737 года, его население составляли 42 969 мужчин и 25 172 женщины{540}. Был, наконец, достроен собор Петропавловской крепости, а сама крепость перестроена в камне. В 1734 году было закончено начатое в 1722-м возведение здания Двенадцати коллегий, в 1732–1738 годах по проекту архитектора Ивана Коробова поставили первое каменное здание Адмиралтейства со шпилем и колоколом, возвещавшим о пожарах и наводнениях. После страшных пожаров 1736 и 1737 годов стал воплощаться созданный Комиссией о Санкт-Петербургском строении генеральный план застройки, в основу которого была положена трёхлучевая система улиц-магистралей: «першпективы» — Невская, Вознесенская и вновь прорубленная «Средняя» (нынешняя Гороховая улица), начинавшиеся от башни Адмиралтейства — пересекались кольцевыми магистралями.
В июне 1730 года Сенат перевёл гостиный двор, портовую таможню и биржу на Васильевский остров. Деревянная одноэтажная биржа, судя по описанию видевшего её в 1736–1737 годах шотландского врача Джона Кука, была не слишком презентабельна: «…не что иное, как очень большой деревянный помост, половина его построена на том рукаве Невы, который омывает восточный берег острова. Помост примерно 300 шагов в длину и соразмерно в ширину. Рядом с биржей стоит в высшей степени величественный склад для хранения товаров. Он построен квадратом из кирпича и имеет только одни ворота… Здесь денно и нощно несёт караул сотня солдат, дабы купеческим товарам не был причинён никакой ущерб. Купец может иметь [здесь] очень просторное помещение, платя 10 шиллингов в месяц. У ближней к реке стороны помоста на протяжении летнего сезона красиво стоят в ряд малые грузовые суда, обеспечивающие большее удобство в ведении дел».
Новая культура не только разнообразила придворные увеселения балами, фейерверками и труппами иноземных певцов. В полки выходили офицерами первые выпускники кадетского корпуса. В списках учеников менее привилегированной гимназии в царствование Анны Иоанновны встречаются преимущественно дети столичных немецких мастеров, лекарей, купцов, моряков, трактирщиков и придворных служителей. Но вместе с ними учились отпрыски обер-прокурора Анисима Маслова и капитан-командора Ивана Козлова, сын сенатора Филипп Новосильцев, сын вице-президента Коммерц-коллегии Иван Алёнин, сын воеводы Василий Квашнин-Самарин, сын подпрапорщика Преображенского полка Иван Сукин, капральский сын Алексей Дьяков, дворянские дети Иван Пущин, Владимир Корсаков, Сергей Козьмин, Пётр Бакунин, Иван Горчаков, Василий Измайлов, Александр Лермонтов{541}.
Впервые с петровских времён в европейских университетах появились русские студенты: Пётр Нарышкин в Тюбингене и Пётр Бестужев-Рюмин в Лейпциге{542}. Михайло Ломоносов, отправленный на обучение за границу из Славяно-греко-латинской академии, в 1740 году в саксонском Фрейбурге уже собирался в обратный путь. Российские студенты не только изучали механику, гидростатику, теоретическую химию, работали вместе со специалистами в штольнях и лабораториях, но и брали уроки танцев, французского языка, фехтования. Немецкие наставники отмечали, что они «чрез меру предавались разгульной жизни и были пристрастны к женскому полу». Пудреные парики, шёлковые чулки и танцы с последующими драками в винных погребах обходились недёшево. В августе 1739 года три студента, за которыми числилось уже 1936 талеров долга, получили суровое предписание директора Академии наук Корфа прекратить «распутную жизнь»{543}. Вся троица впоследствии прославилась: широта научных интересов Ломоносова хорошо известна; Дмитрий Виноградов стал выдающимся химиком-технологом и основателем Петербургской фарфоровой («порцелиновой) мануфактуры, Густав Райзер — горным инженером и профессионалом-администратором, бергмейстером Канцелярии главного правления заводов на Урале.
Основанная в Петербурге сенатским указом (1724) Академия наук развернула работу. В 1730 году её профессорами состояли известные европейские учёные — математик Яков Герман, астроном Луи Делил ь дела Кройер, физик Георг Бильфингер, филолог и историк Готлиб Байер, профессор логики и метафизики Христиан Гросс. В стенах академии математик и физик Даниил Бернулли подготовил один из главных своих трудов — «Гидродинамику»; работа его коллеги Леонарда Эйлера «Механика, или Наука о движении, изложенная аналитически» (1736) принесла автору общеевропейскую известность. Физик Георг Вольфганг Крафт состоял инспектором академической гимназии, писал учебники и читал публичные лекции по физике «для всех любителей добрых наук». В 1739 году при академии был основан географический департамент, который через несколько лет издал первый «Атлас Российский».
Вместе с учёными «немцами» и их первыми студентами службу российской науке несли официальные академические «монстры» — безрукий сын гарнизонного солдата Ивана Тимофеева и его товарищи Яков Васильев и Фома Игнатов в полагавшихся им мундирах зелёного сукна, а также умельцы-мастеровые, на которых жаловался начальник канцелярии Шумахер: в соседнем кабаке «пьянствуют и в том работы останавливают», отвлекаются на «непотребных жён», захаживавших прямо в «академические апартаменты»{544}.
В Петербург прибывали молодые перспективные учёные. Ботаник Иоганн Амман создал в Северной столице ботанический сад и в 1739 году опубликовал труд «Изображения и описания редких растений, произрастающих в Российской империи». Другой сад основал в 1731 году в Соликамске промышленник и один из первых российских меценатов Григорий Акинфиевич Демидов, переписывавшийся с начальником Медицинской канцелярии лейб-медиком Иоганном Фишером и директором московского «аптекарского огорода» врачом Трауготтом Гербером. «В намерении имею травы описать российскими именами и которую траву россияне от какой болезни употребляют и в каких местах ростёт и в которые месяцы цветёт…» — сообщал он в 1740 году о своих планах.
Натуралисты Иоганн Георг Гмелин и Георг Стеллер, историк Герард Фридрих Миллер стали участниками Второй Камчатской экспедиции Витуса Беринга, проходившей порой в тяжелейших походных условиях, и внесли вклад в изучение Сибири. В ноябре 1740 года, находясь на Камчатке, Стеллер докладывал главному командиру полуострова Петру Колесову, что студент Степан Крашенинников, проводя «метеорологические обсервации» в Нижнекамчатском остроге, «за скудостью бумаги записывает обсервации в берестяные книги»{545}; так передовая европейская наука брала на вооружение средневековую практику. Сам Стеллер умер от внезапной болезни в Тюмени, а астроном Делиль де ла Кройер скончался от цинги во время плавания к берегам Америки.
Развитие науки стало приметой времени. Необразованная императрица особенно ценила те научные отрасли, которые могли приносить практическую пользу. Академики получали от неё ответственные задания. Так, в 1734 году она велела собрать учёное заседание в «зверовом дворе»: требовалось осмотреть и зарисовать «внутренние части» издохшего льва; в том же году профессорам Вейтбрехту и Дювернуа и историку Байеру было поручено «анатомировать и физически и исторически описать» тушу кита. А в 1738 году кабинет-министр Черкасский послал начальнику академической канцелярии Иоганну Шумахеру «рыбу, именуемую стерледь… дабы вы изволили приказать оную анатомировать и сделать, сняв кожу, чючило, так же и кости поставить на проволоки»{546}. Физик Крафт по воле Анны сочинял гороскопы, провёл инженерные расчёты и составил «Подлинное и обстоятельное описание построенного в Санкт-Петербурге в генваре месяце 1740 года Ледяного дома и находившихся в нём домовых вещей и уборов».
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Анна Иоанновна"
Книги похожие на "Анна Иоанновна" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Игорь Курукин - Анна Иоанновна"
Отзывы читателей о книге "Анна Иоанновна", комментарии и мнения людей о произведении.