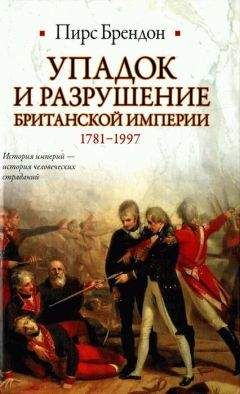Михаил Долбилов - Русский край, чужая вера. Этноконфессиональная политика империи в Литве и Белоруссии при Александре II

Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.
Описание книги "Русский край, чужая вера. Этноконфессиональная политика империи в Литве и Белоруссии при Александре II"
Описание и краткое содержание "Русский край, чужая вера. Этноконфессиональная политика империи в Литве и Белоруссии при Александре II" читать бесплатно онлайн.
Опираясь на христианские и нехристианские конфессии в повседневных делах управления, власти Российской империи в то же самое время соперничали с главами религиозных сообществ за духовную лояльность населения. В монографии М. Долбилова сплетение опеки и репрессии, дисциплинирования и дискредитации в имперской конфессиональной инженерии рассматривается с разных точек зрения. Прежде всего – в его взаимосвязи с политикой русификации, которая проводилась в обширном, этнически пестром Северо-Западном крае накануне и после Январского восстания 1863 года. Царская веротерпимость была ограниченным ресурсом, который постоянно перераспределялся между конфессиями. Почему гонения на католиков так и не увенчались отказом католичеству в высоком статусе среди «иностранных вероисповеданий» империи? Каким образом юдофобия, присущая многим чиновникам, сочеталась с попытками приспособить систему государственного образования для евреев к традиционной религиозности? Поиску ответов на эти и другие вопросы, сфокусированные на отношениях государства, религии и национализма, посвящена данная книга.
Хотя это распоряжение имело высочайшую санкцию, генерал-губернаторы восприняли его как исходящее непосредственно от министра внутренних дел и позволили себе высказать на этот счет собственные мнения. Веские соображения о необходимости скорректировать предписанную меру изложил генерал-губернатор Виленской, Ковенской, Гродненской и Минской губерний И.Г. Бибиков, родной брат министра внутренних дел. К 1855 году Бибиков, совмещавший с генерал-губернаторской и должность попечителя Виленского учебного округа, зарекомендовал себя бюрократом, сравнительно толерантным к местной польскоязычной элите. Так, в 1852 году он воспротивился инициированному Министерством народного просвещения проекту отделения литовцев от поляков в средних учебных заведениях Ковенской губернии, сославшись на то, что враждебность литовцев – и шляхты, и крестьян – к российской власти вовсе не перенята у поляков, а порождается в их собственной среде. В 1854–1855 годах Бибиков подчеркнуто не усердствовал в применении на практике утвержденных в 1853 году правил т. н. инвентаризации помещичьих имений[421], невыгодных для помещиков и аналогичных той инвентарной реформе, которую его брат Дмитрий в бытность киевским генерал-губернатором весьма жестко проводил в Юго-Западном крае в конце 1840-х годов[422]. Митрополит Иосиф Семашко еще в 1851 году в письме обер-прокурору Синода Н.А. Протасову припечатал Бибикова как «отдавшегося» «польской партии»[423], что, разумеется, было сильным преувеличением.
19 февраля 1855 года (день спустя после смерти Николая I, известие о которой, впрочем, в Вильну тогда еще не пришло) Илья Бибиков направил своему брату Дмитрию, в его качестве министра внутренних дел, пространное – разумеется, официальное – отношение, где доказывал и несправедливость, и практическую неисполнимость распоряжения о «неотложном замещении» столь значительного числа должностей. Он полагал, что местные жители, в особенности дворяне, сделавшие «много пожертвований в видах Правительства», «не заслужили такой меры, которая доказывает столь явно совершенное недоверие к ним и не была даже сочтена нужною после мятежа 1831 года». Генерал-губернатор напоминал министру, что для увольнения служащих, не уличенных ни в каких конкретных провинностях, придется изыскивать предлоги; что «огромную массу» уволенных чиновников не так легко пристроить где-нибудь в великорусской провинции; что без специальных материальных поощрений опытные и благонадежные русские чиновники не пожелают «переселяться на службу в незнакомый для них край, где должны будут найти столько чуждого для себя»[424]. Бибиков признавал, что, за исключением земских исправников и городничих, все остальные должности по земской и городской полиции во вверенных ему губерниях заняты «уроженцами края». И здесь-то он вполне откровенно высказывал свой едва ли не главный аргумент против отказа от услуг местных уроженцев:
Если даже и предположить, что можно было бы теперь же приискать и определить здесь в полицейские должности чиновников из русских, сколько должно будет пройти времени, пока они, изучив язык польский и обычаи края, ознакомясь с местными обстоятельствами и жителями… будут в состоянии действовать с пользою[425].
Слова «язык польский» в подлиннике отношения, полученного из Вильны, не случайно были подчеркнуты или самим министром Бибиковым, или кем-то из его ближайших сотрудников. В МВД хорошо понимали, что, объявляя владение польским языком важнейшим критерием профессиональной пригодности к службе в западных губерниях, местная власть ставит центральную перед необходимостью сформулировать более четкую позицию по вопросу о русскости края, нежели подразумевалось этнически размытым противопоставлением «русских» – «местным уроженцам» / «туземцам». (Заметим, что в буквальном прочтении слово «туземцы» намекало на сохранение за русскими статуса пришельцев.)
Обсуждение намеченной меры в кругу высшей бюрократии продолжалось в течение двух лет после смерти Николая I. В апреле 1855 года Комитет министров, заслушав записку И.Г. Бибикова, косвенно согласился хотя бы с частью его доводов. Сановники постановили, что чиновников из местных уроженцев замещать надо, но делать это следует постепенно: мол, в высочайшем повелении не сказано, чтобы замещение это было произведено «вдруг или даже вскорости»[426] (это некоторая передержка, ибо Николай, судя по всему, имел в виду как раз довольно энергичные действия). В начале 1856 года дискуссия получила новый импульс благодаря предложению киевского генерал-губернатора кн. И.И. Васильчикова. Сменивший на этом посту Дмитрия Бибикова в 1852 году, Васильчиков в первые годы своего управления Юго-Западным краем, как и Илья Бибиков – в Вильне, примирительно относился к местной польской элите[427]. Впоследствии, однако, он – во многом под влиянием событий, связанных с подготовкой освобождения крестьян, – начал проектировать меры по усилению «русского элемента» в крае, включая колонизацию Киевщины, Волыни и Подолии силами русских землевладельцев[428]. Записка Васильчикова, поданная в январе 1856 года вновь назначенному министру внутренних дел С.С. Ланскому, фиксирует самый момент поворота киевского генерал-губернатора к деполонизаторской (хотя и не в крайней версии) политике. В частности, он предложил для ускорения предписанной Николаем I замены чиновников ввести в крае исключительный режим карьерного роста: «не стесняться в замещении должностей чинами и классами, сообразуясь лишь с способностью и степенью благонадежности служащих», и награждать отличившихся чиновников вне очереди. Это должно было привлечь в дотоле непривлекательный для службы край множество молодых и не испорченных рутиной чиновников из Великороссии[429].
Предложения Васильчикова, ставившие под вопрос и букву Табели о рангах, и привычный многим порядок управления окраиной с опорой на местную элиту, были оспорены министерствами финансов и государственных имуществ. Так, глава последнего ведомства гр. П.Д. Киселев – совсем незадолго до перемещения с этой должности на пост посла во Франции – отмечал в своем отзыве:
Искусственное привлечение русских в Западный край едва ли достигнет цели: действительно хорошие чиновники не оставят своих мест (в Великороссии. – М.Д.)… Прочное управление обширным краем нельзя устроить без преданности туземцев… Опыт повсюду доказывает, что лица, принадлежавшие к враждебным сословиям, благоразумно избранные Правительством и ему вполне предавшиеся, делаются потом самыми ревностными его поборниками[430].
После того как в августе 1856 года Александр II в рамках коронационных милостей отменил указы и постановления 1837 и 1852 годов касательно продолжительности и места службы уроженцев Западного края[431], секретное повеление Николая I от 2 февраля 1855 года стало еще труднее применить на практике. Согласно николаевскому видению «польского вопроса», перевоспитание поляков (пусть даже официально именуемых иначе) службой в Великороссии и приток «русского элемента» в Западный край составляли двуединую программу. Теперь, когда уроженцы края получили право определяться на службу согласно общим правилам, т. е. могли служить у себя на родине без предшествующего «великороссийского» стажа, механизм вытеснения их русскими требовал серьезной переналадки, не входившей, как вскоре выяснилось, в планы властей в первые годы царствования Александра II. Предвидел или нет Александр такое последствие отмены упомянутых особых правил 1837 и 1852 годов, но в апреле 1857-го он утвердил положение Комитета министров, признавшее ненужным дальнейшее обсуждение новых правил замещения должностей русскими. Резолюция императора передает типичное для него двойственное отношение к наследию отца: «Согласен, но привлечение русских благонадежных чиновников для службы в сих губерниях считаю весьма полезным и теперь»[432]. По сравнению с тем, как задача деполонизации местного чиновничества будет заявлена спустя шесть лет, после Январского восстания (а некоторыми бюрократами – и за какое-то время до него), процитированное царское напутствие звучит прямо-таки деликатно.
О том, что молодой император не был готов к действительному переосмыслению стратегии его отца в отношении Западного края, имеется немало свидетельств. Вот еще один частный, но показательный пример. Вскоре после воцарения, изучая поданный ему проект реформ в военном управлении, Александр выразил сожаление по поводу чрезмерного распространения болезней в «нашей прекрасной гвардии» и назвал место ее дислокации во время Крымской войны «злосчастными польскими губерниями» («malheureux gouvernements polonais»)[433]. В этой брошенной мимоходом фразе ярко отразилось отсутствие у императора действительной эмоциональной привязанности, душевного расположения к этой части империи.
В первые годы своего правления Александр попытался применить к этому региону уже испытанную модель распределения полномочий между центром и окраинной элитой. Казалось, это позволит избавиться от ненужного бремени управленческих забот. Но для реализации такой стратегии требовалось продемонстрировать монаршее доверие и милость к местной знати, в подавляющем большинстве польскоязычной и приверженной культурному наследию Речи Посполитой, – подобная репрезентация, при всей ее условности, была одной из опор имперского строя. Сделать это в данном случае было особенно нелегко: в отличие от эпохи Александра I, власть уже не соглашалась признавать, хотя бы и молчаливо, «польскость» дворянства западных губерний легитимным свойством целой корпорации (вспомним беспокойство руководителей МВД по поводу прямо высказанного И.Г. Бибиковым тезиса о знании польского языка как необходимом условии службы в крае). Иными словами, уступки надо было сделать людям, которых считали поляками, но так, чтобы не показать слишком откровенно, что их считают таковыми.
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Русский край, чужая вера. Этноконфессиональная политика империи в Литве и Белоруссии при Александре II"
Книги похожие на "Русский край, чужая вера. Этноконфессиональная политика империи в Литве и Белоруссии при Александре II" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Михаил Долбилов - Русский край, чужая вера. Этноконфессиональная политика империи в Литве и Белоруссии при Александре II"
Отзывы читателей о книге "Русский край, чужая вера. Этноконфессиональная политика империи в Литве и Белоруссии при Александре II", комментарии и мнения людей о произведении.